Перевел с немецкого С. В. Петров
Школяр в раю.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Странствующий школяр
Крестьянин
 Крестьянка
Крестьянка
К р е с т ь я н к а
(входит)
Увы, как часто я вздыхаю,
Когда о прошлом вспоминаю, -
О муженьке своем покойном,
Благочестивом и достойном.
Ах, он был добрый человек
И рано свой окончил век.
Его любила я сердечно,
И он меня любил, конечно.
Теперь всему пришел конец.
С другим пошла я под венец,
Но прежнему он не под стать,
Скупой, богатым хочет стать,
Все прячет, держит под ключом.
Уж нет свободы мне ни в чем!
Ах, мой покойник был добрее, —
Я до сих пор о нем жалею.
Ему бы рада услужить
И чем возможно удружить.
Школяр (входит)
Мамаша! Я сюда являюсь
И вам смиренно представляюсь:
Ко мне пребудьте благосклонны!
Я человек весьма ученый,
В горе Венеры побывал
И в книгах много прочитал,
О чем твердят в стихах поэты.
Школяр я, странствую по свету
И видел много стран и сел.
Я из Парижа к вам пришел,
Из райского пришел я края.
Крестьянка
Как? Вы пришли сюда из рая?
Да что вы! Да не может быть!
Дозвольте, сударь, вас спросить:
Вы муженька там не видали?
Он умер — будет год едва ли.
Он кроток был и прост к тому ж!
Ах, верю я, в раю мой муж!
Школяр
Там было много разных душ.
Но вы скажите, в чем он был,
Какое платье он носил?
Его узнаю я по платью.
Крестьянка
Про то хочу сейчас сказать я:
Он был положен в шляпе синей
И чуть поношенной холстине.
По правде, больше ничего, —
Так схоронили мы его.
Школяр
Теперь его я узнаю —
Он бродит без портков в раю!
Он синей шляпою прикрыт,
Холстиной новою покрыт.
Другие славно там живут,
И угощаются, и пьют,
А у него, нет ни гроша, —
Печальна бедная душа,
И должен в бедности просить
Он подаянья, чтобы жить.
Вот ведь какая с ним печаль.
Крестьянка
Ах, муженек, мне страсть как жаль,
Что ты в такой нужде живешь
И даже гроша не найдешь,
Чтоб в баню иногда сходить!
Дозвольте, сударь, вас спросить:
Вернетесь в рай вы как-нибудь?
Ш к о л я р
Я завтра отправляюсь в путь,
В раю я через две недели.
Крестьянка
Ах, если бы вы захотели
Гостинец мужу передать!
Ш к о л я р
Ну что ж, — гостинец можно взять.
Но я прошу вас, поспешите.
Крестьянка
Маленько, сударь, обождите, —
Я это сразу все найду. (Уходит.)
Школяр (один, говорит с самим собой)
Я эту дуру проведу!
И, право, будет очень кстати,
Что принесет она мне платье!
А деньги тоже пригодятся, —
Лишь только бы успеть убраться,
Покуда муж ее второй
Не повстречался здесь со мной,
Иначе все пиши пропало!
А тут — наследство перепало.
Крестьянка (входит)
Вот здесь двенадцать золотых, —
Уж вы возьмите, сударь, их, —
Они до нынешнего дня
В земле лежали у меня,
В хлеву, где стойло для коровы.
А вот для старика обновы:
Сюда вложила я сукно —
Годится на камзол оно,
А вот еще штаны, жилет,
Рубашка, ножик и кисет.
Теперь вот это я послала, —
Все, что мне под руку попало.
Спешила это я отправить,
Чтоб от нужды его избавить.
Он кроток был и нравом тих
И мне милее из двоих!
Школяр
(берет узелок)
Ну, муженек ваш будет рад!
Наденет новый он наряд,
А в праздник выпьет, сходит в гости,
С друзьями поиграет в кости.
Крестьянка
А долго ль будете в пути?
Туда не близко ведь идти.
Школяр
Дорога в рай трудней, чем в ад.
Не скоро буду я назад.
Крестьянка
Ну, если так, то, может статься
Что снова будет он нуждаться.
Так вот вам горсть богемских грошей, —
Возьмите, сударь мой хороший!
Скажите: кончим молотьбу,
Еще я денег наскребу,
От мужа потихоньку скрою,
В хлеву под стенкой их зарою,
Как сделала на этот раз.
А этот талер — пусть для вас
За труд наградой будет он...
Снесите ж муженьку поклон.
Школяр уходит.
Крестьянка
(одна, громко поет)
Ах, порадуйся, девица!
Крестьянин (входит)
Старуха, что с тобой случилось,
С чего ты вдруг развеселилась?
Крестьянка
Пою от радости большой!
Крестьянин
Да расскажи мне, что с тобой?
Крестьянка
Скажу, поди, ты будешь рад!
Крестьянин
Брыкнула телка невпопад!
Крестьянка
Школяр зашел к нам отдохнуть, —
Из рая прямо держит путь.
Он видел мужа моего
И рассказал мне про него,
Что тот живет в нужде суровой
И ходит в простыне не новой,
Лишь синей шляпой он прикрыт,
Без денег, без штанов сидит, —
И правда, я в последний путь
Его одела как-нибудь.
Крестьянин
Уж не надумала ль ты, женка,
Портки послать ему вдогонку?
Крестьянка
Вот-вот! А там уж заодно
Ему послала и сукно,
Кисет, рубаху и жилет
Да мелких денег на обед,
Чтоб он не голодал в раю.
Крестьянин
Твою повадку узнаю!
Как выглядел школяр, скажи.
Его приметы укажи.
Крестьянка
Видать, он здорово учен.
Пошел, наверно, низом он;
На шее носит он силок,
А за спиною узелок.
Крестьянин
Сдается мне, что денег мало
Ты мужу на тот свет послала.
Теперь послушайся меня,
Вели-ка оседлать коня:
Хочу я школяра догнать
И от себя червонец дать.
Крестьянка
Ну, благодарствуй, муженек!
Тебе настанет тоже срок,—
Тебя, ей-богу, я люблю,
Гостинцев на тот свет пошлю.
Крестьянин
На черта эта болтовня!
Вели скорей седлать коня,
Чтоб мог догнать я обормота,
Пока он не достиг болота.
Крестьянка уходит.
Крестьянин (один, говорит сам с собой)
О господи! Ну и жена!
Корова сущая она!
Дубина! Истинный чурбан!
Ей закрутил башку смутьян!
Такой дурехи не сыскать.
И что надумала! Послать
Посылку мужу своему,
Который умер год тому!
А все школяр тому виной!
Да я и сам востер! Постой,
Догнать скорехонько сумею
И надаю ему по шее.
Ему я шкуру надеру,
Гостинцы мигом отберу,
Потом к жене домой направлюсь
И с ней по-своему расправлюсь:
Ей понаставлю синяков,
Попадаю ей тумаков!
Вот бабу взял! Нет больше сил, —
Чтоб паралич ее разбил!
Крестьянка (входит)
Ну вот, твой конь уже готов.
Теперь садись и будь здоров.
Крестьянин и крестьянка уходят.
Школяр (входит с узелком)
Мне счастье нынче привалило!
Ишь как старуха одарила!
Побольше эдаких бы вдов, —
Для каждой сбегать в рай готов!
Ой-ой! Кто это там ко мне
Несется рысью на коне?!
Что, если это муж второй
Задумал встретиться со мной?
Скорей припрячу узелок
Сюда, в сторонку, за пенек!
Ой, наказанье! Ой, беда!
Он приближается сюда!
Засуну под камзол суму,
Чтоб не узнать меня ему,
И стану с палкой у болота,
Как будто здесь я жду кого-то.
Въезжает крестьянин верхом.
Крестьянин
Здорово, молодец, здорово!
Ты парня не видал такого:
Силок он носит на груди,
А узелочек позади,—
Он должен был здесь пробежать.
Школяр
Видал, видал, как не видать!
Он пробежал наискосок
Через болото и в лесок;
Его за кочками в болоте,
Поди, живехонько найдете:
С собой он узел волочит,
Пыхтит, потеет и сопит.
Крестьянин
Он самый! Это он и есть!
В болото выдумал залезть,
Но не спасется от меня!
Любезный, подержи коня.
Пешком болото перейду,
Прохвоста живо я найду,
Обманщика я проучу,
Моей дубинкой угощу!
Исколочу его — пускай
Он синяки уносит в рай!
Ш к о л я р
Священника я поджидаю,
Когда он здесь пройдет, не знаю.
Я вам охотно услужу,
Коня за повод подержу.
Крестьянин
Ну вот, постереги коня,
Получишь крейцер от меня.
(Уходит.)
Школяр (один, говорит сам с собой)
Эх! Не тужите о коне!
Он знатно пригодится мне.
Ну, славный выдался денек! —
Штаны, и деньги, и конек!
Гляди, я избежал беды!
Ведь мне везет на все лады:
Жена одеждою снабжает,
А муж лошадку прибавляет, —
Он добрый, сам пешком идет,
А мне лошадку отдает.
Вот этот, если и помрет,
 В рай непременно попадет!
В рай непременно попадет!
А я согласен для него
Стащить и все добро его.
А впрочем, нечего зевать!
Скорее надо удирать,
Не то как раз усядусь в лужу, —
С ним разговоры будут хуже!
Прихлопнет сразу он меня
И за штаны и за коня.
Ну-ну, буланый, поезжай!
Вези меня скорее в рай,
В корчму, где повар кур нажарит:
Пускай мужик в болоте шарит!
(Взяв узелок, уходит.)
Крестьянка
(входит и говорит сама с собой)
Мой муженек ушел в обед,
Стемнело, а его все нет.
Тревожусь что-то за него,
Уж не случилось ли чего?
Сумел ли школяра догнать,
Успел ли деньги передать?
Ахти мне! Староста идет!
Свинья забралась в огород! (Уходит.)
Крестьянин (входит и говорит сам с собой)
А где же лошадь? Караул!
Меня мошенник обманул!
Ах я, тетеря! И похоже,
Что он же утащил одежу!
Коня, и деньги, и сукно
Я проворонил заодно!
Я олух! Одурачен я!
А вот и женушка моя
Сюда приперлась не к добру.
Шалишь, — ну, ей-то я навру.
А я-то думал ей расправу,
Вернувшись, учинить на славу
За то, что так глупа была
И вору деньги отдала!
Ахти! Попутал бес меня, —
Я сам привел ему коня.
Крестьянка (входит)
Зачем пешком ты возвратился?
Что, деньги взять он согласился?
Крестьянин
Он мне сказал, что труден путь,
И чтоб он мог передохнуть
И в рай скорее угодил,
Ему КОНЯ Я ОДОЛЖИЛ;
Когда посылочку твою
Он старику отдаст в раю,
Ему же передаст коня.
Ну, женка, хвалишь ли меня?
Крестьянка
Да, муженек мой дорогой,
Весьма довольна я тобой.
Бог даст, на днях и ты помрешь
И в рай, наверно, попадешь, —
Ступай туда хоть голышом,
Я позабочусь обо всем:
Тебе я в рай отправлю вслед
Штаны, рубаху и жилет,
Цыпляток, свинушку, корову!
Я послужить тебе готова,
Мой муженек, со всех сторон,
И до и после похорон.
Крестьянин
Отлично, милая жена.
Но просьба у меня одна:
О нашей помолчи беседе,
Чтоб не проведали соседи, —
Ведь здесь духовные дела!
Крестьянка
Я всех соседей обошла.
Крестьянин
Так ты, поди, все разболтала?
Крестьянка
Ну, я про рай им рассказала.
Меня сердечно поздравляли
И до упаду хохотали.
Крестьянин
Тебя поздравит черт рябой!
Они смеялись над тобой!
Мне в наказанье ты дана!
Ступай, готовь обед, жена.
Крестьянка
Я буду ждать тебя, дружок. (Уходит.)
Крестьянин (один)
Вот, говорят, судьба иль рок!
По-моему же, горе злое
Иметь сокровище такое!
Ну как добро тут сохранить?
Цепной собакой надо быть
И день и ночь следить со страхом:
Чуть отойдешь, пойдет все прахом.
Супруг годами собирает,
Жена в минуту промотает!
Но я скажу вам между нами,
Привыкнуть можно к ней с годами,
Была бы смирная она
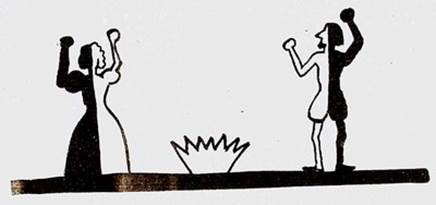 И мужу верная жена.
И мужу верная жена.
Ведь иногда и так бывает:
И муж случайно оплошает,
Внезапно попадет впросак.
Глядишь, и вышел сам дурак.
Так чтобы дома был покой,
Простим жене разок-другой!
Тогда не будет свары там,
Чего Ганс Сакс желает вам.
Вольпоне
Самым крупным из всех младших современников Шекспира исследователи считают Бена Джонсона. Его драматургия была явлением чрезвычайно самобытным, открывавшим новые пути развития английской драмы. С самого начала Джонсон ощущал себя реформатором сцены. Шекспировскому театру поэтического синтеза Джонсон противопоставил собственные идеи о природе драматического искусства, высказанные им в предисловиях к своим пьесам и в специальных заметках. Отталкиваясь от воззрений известного поэта и романиста елизаветинской поры Филипа Сидни (1554—1586), сформулированных в трактате «Защита поэзии» (опубликован в 1595 г.), где эстетика Аристотеля трактовалась в неоплатоническом духе, Джонсон развивал теории, близкие к классицизму. Так, он критиковал современную английскую драму за ее «неправильность» с точки зрения классицистских норм и требовал от художников более точного следования природе на основе принципов бытового реализма. Спонтанности творчества бн противопоставлял рациональное начало и подчеркивал морально-дидактическое назначение искусства. Знаменитая же теория «гуморов» Джонсона строится на выделении в характере героя одной особенной черты, нарушавшей гармонию личности и понимавшейся драматургом как слабость ил причуда его персонажа (сходно с «манией» мольеровских героев).
Подобные теории были важным новым словом в эстетике английского театра. Своим рационализмом они противостояли начинавшей складываться практике маньеризма и барокко. К суждениям Джонсона прислушивались и драматурги более младшего поколения, о чем весьма явно говорят их комедии.
И все же на основании теорий, высказанных Джонсоном, нельзя объявлять его последовательным классицистом. Более того, если взять, как принято, за эталон классицистского театра французский театр, то можно, пожалуй, сказать, что жестким требованиям классицизма не отвечало полностью творчество ни одного английского драматурга XVII века. Связи же Джонсона с елизаветинским ' поэтическим театром и его ренессансной основой оставались настолько сильны и жизненны, что творчество драматурга явно не укладывалось в рамки его теоретических выкладок. Добавим, что Джонсон, много писавший для закрытых театров, не избежал также и влияния маньеризма.
До нас дошли две трагедии Джонсона «Падение Сеяна» (1603) и «Заговор Катилины» (1611), сюжеты которых взяты из истории Древнего Рима. В критике издавна принято сопоставлять их с «римскими» трагедиями Шекспира. Исследователи при этом обычно указывали, что Рим Шекспира — во многом детище его воображения, что, опираясь на жизнеописания исторических личностей, великий драматург ставил и решал общечеловеческие проблемы. В своей .реконструкции прошлого Джонсон, великолепный знаток античности, был гораздо более точен, часто почти буквально следуя источникам, будь то, скажем, «Анналы» Тицита или речи Цицерона.
Однако античное наследие Джонсон воспринимал творчески и всегда соотносил его с современностью. Замысел Джонсона в этих трагедиях в отличие от шекспировского был прежде всего сатирическим. Отсюда не только известная узость поля зрения драматурга, но и специфическая интенсивность его зрения. Сатира на театральных подмостках Англии начала XVII века была делом достаточно рискованным. Обилие ссылок на античные источники было необходимо Джонсону для того, чтобы оградить себя от возможных придирок, поскольку за Римом обеих трагедий можно было угадать контуры современного Лондона.
Конечно, «Сеян» или «Катилина» не поддаются однозначной политической расшифровке, и было бы ошибкой искать в бесславном падении временщика Сеяна прямую параллель с судьбой лорда Эссекса. Сходство Рима Джонсона с современной Англией можно скорее разглядеть в зловещей картине бездуховности и всеобщей коррупции, нарисованной воображением драматурга. Поэтому римское общество Джонсона оказывается сродни мальтийскому у Марло или французскому у Чэпмена. Однако взгляд Джонсона на мир значительно мрачнее, а его злодеи-макиавеллисты еще более циничны и преступны. Если у героев трагедий Джонсона в соответствии с его теориями и есть какой-то «гумор», то это безграничное честолюбие. Отвратительный выскочка Сеян, идущий наверх через грязные преступления, гибнет в конце трагедии. Но, как ясно зрителям, зло здесь побеждается еще большим злом коварного императора Тиберия. Правда, в «Каталине» благородный Цицерон, еще живущий старыми патриархальными идеалами, успевает пресечь кровавый заговор Катилины и его приспешников. Но это лишь Пиррова победа, поскольку лукавый Цезарь остается безнаказанном и, притаившись, ждет своего часа.
Однако не будем забывать, что «Сеян» и «Катилина» — трагедии сатирические, допускающие и злой сарказм, и некое гротескное искажение. И неверно было бы считать пессимизм основной позицией их автора. Столь органичная таланту Джонсона ирония не раз дает о себе знать в его трагедиях. Недаром именно комические сцены обычно считаются в них наиболее удавшимися. Позиция драматурга здесь близка маньеризму с его мрачными представлениями о мире, погрязшем в пороках, сатирической направленностью мысли и обыгрыванием контрастов комического и трагического.
Джонсона часто называют отцом английской комедии. И действительно, его влияние определило дальнейшее развитие этого жанра на протяжении по крайней мере двух столетий вплоть до эпохи романтизма и косвенно давало о себе знать много позже в сатирической прозе Диккенса и Теккерея.
Елизаветинской романтической традиции, достигшей апогея в творчестве Шекспира 90-х годов XVI века, Бен Джонсон противопоставил свою комедию. Поэтизация свободного чувства не занимала драматурга, любовно-авантюрный элемент действия играл в его комедиях лишь незначительную роль, а взаимоотношения человека и общества трактовались с принципиально новых позиций. Уже в двух ранних пьесах Джонсона «У всякого свои причуды» (1598) и «Все без своих причуд» (1599) наметились характерные черты его комедий, где теория «гуморов», дававшая возможность автору вывести на суд зрителей галерею разнообразных характеров, была лишь фундаментом, на котором строилось, здание жанра. Написавший обстоятельное исследование на эту тему, Б. Гиббоне определяет его как жанр «городской комедии», в которой преобладают сатирические мотивы, а действие, как правило, разворачивается в современном драматургу Лондоне. Городская комедия соединила традиции моралите, интермедий, римской и народной итальянской комедий со злободневным опытом елизаветинской сатиры в прозе и поэзии, создав оригинальный синтез. Гиббоне, безусловно, прав. Согласно более привычному и общему суждению, Бен Джонсон является творцом комедии нравов, дававшей сатирическое обозрение жизни Лондона начала XVII века.
В зрелых комедиях Бена Джонсона «Вольпоне» (1605), «Эписин, или Молчаливая женщина» (1609), «Алхимик» (1610), «Варфоло меевская ярмарка» (1614) и «Черт выставлен ослом» (1616) идет та же жестокая война «всех против всех», что и в его трагедиях. Правда, столкновения персонажей кончаются здесь благополучно, но добро обычно уже не побеждает зло, как у елизаветинцев; скорее зло, запутавшись, наказывает само себя. Циничный же макиавеллизм в комическом обличий выглядел тут еще более жизненно и правдиво. Снявшие римские тоги, герои драматурга казались взятыми из самой гущи жизни, и зрители, несмотря на гротескно-карикатурные преувеличения, узнавали в них самих себя. Сатирическая панорама английской жизни, представленная в комедиях Джонсона, отличалась крайней злободневностью. По словам Кольриджа, не было ни одной причуды лондонского быта, описанной мемуаристами эпохи, которую бы мы не нашли в пьесах Джонсона'8. Важно, однако, помнить, что за всем этим драматург сумел необычайно точно разглядеть сложные социальные процессы, характерные для Англии того времени, и показать их нравственное воздействие на своих современников. ^
В своей первой зрелой комедии «Вольпоне» Джонсон обратился к теме власти денег, знакомой зрителям по «Мальтийскому еврею» Марло и «Венецианскому купцу» Шекспира. Хотя Вольпоне генетически близок аморальным Варавве и Шейлоку, мир комедии Джонсона сопоставим уже не столько с этими пьесами 90-х годов, сколько со вскоре появившимся «Тимоном Афинским», где изображен полный распад всех человеческих связей, место которых занял откровенно меркантильный расчет. Именно поэтому вначале безудержно щедрый и человеколюбивый Тимон, прозрев, превращался в озлобленного мизантропа и навсегда покидал общество людей. Но если прозрение трагического героя Шекспира стоило ему жизни, то совсем иначе складывается судьба комического героя Джонсона — итальянского вельможи Вольпоне. Неотделимый от сложившейся в обществе системы духовно-материальных отношений, он ловко использует эту систему в своих целях. Поняв, что блеск золота «затмевает солнце» и «подчиняет себе добродетель, честь и славу», Вольпоне притворился умирающим, чтобы выманить побольше денег и подарков от людей, надеявшихся стать его наследниками. Хитроумная интрига героя открывала перед зрителями сатирическую панораму нравов. Всем здесь правил голый чистоган, которому с легкостью приносились в жертву естественные человеческие чувства отца и сына, мужа и жены, а правосудие цинично оправдывало злодеев, наказывая невиновных. И лишь непредвиденный поворот действия приводил пьесу к благополучной развязке.
Обожествление золотого тельца, которому поклонялся Вольпоне, гротескно гиперболизировалось автором. Его герой был личностью по-своему титанической, ему было тесно в узких рамках комедии-фарса! Об этом явно свидетельствовал финал пьесы, где Вольпоне, отбросив притворство, обнажал свое истинное лицо. Так уже знакомая нам по трагедиям тех лет проблема обратной стороны возрожденческого титанизма зазвучала теперь и в комедии.
Фигуры, по своему масштабу равной Вольпоне, не было в других пьесах Джонсона, но их герои жили, по сути дела, в том же самом мире разгула индивидуалистических страстей, где золото сверкало ярче солнца. Нагляднее всего это ощущается в комедиях «Алхимик» и «Черт выставлен ослом». Проделки хитрых плутов Сатла, Фейса и Дол Коммон, персонажей «Алхимика», приводили в движение целый хоровод гротескно-карикатурных героев самого различного возраста и общественного положения, каждый из которых искал кратчайшего пути к благам мира сего. Их желания, ловко обыгрываемые тройкой плутов, образовывали своеобразный спектр эгоистических аппетитов, простиравшихся от поисков духов-покровителей,. подсказывающих, кто возьмет приз на скачках, до создания пресловутого «философского камня», превращающего низкие металлы в золото.
Более поздняя комедия Б. Джонсона «Черт выставлен ослом» представляла собой как бы вывернутое наизнанку, комически спародированное моралите, где традиционным фигурам беса — искусителя и порока — делать было уже нечего и они в отчаянии признавали свое поражение. Мелкий бес Наг, отпросившись из преисподней всего на один день в Лондон и претерпев великое множество невзгод от людей, превзошедших его своим плутовством, ускользал от позорной казни на виселице благодаря заступничеству сатаны. Легковерного же глупца провинциального сквайра Фицдупеля дурачили теперь не бесы, а люди, обыгрывая его слабости с чисто современными хитростью и коварством, с которыми не могли идти в сравнение наивно примитивные козй*и Пага. Люди же в конце пьесы и наставляли Фицдупеля на путь истинный, приводя его к покаянию и заставляя подчиниться своей благоразумной супруге. Сатирической злободневностью эта пьеса, пожалуй, даже превосходила другие комедии Джонсона, которым присуще более поэтически-обобщенное видение мира. Здесь драматург обратился к специфически конкретным явлениям общественной жизни, высмеяв, например, прожектерство, которое пышно расцвело в Англии тех лет. В эпоху правления Иакова в Лондоне появляются многочисленные «предприятия» сомнительного свойства, сулившие участникам быстрое обогащение и почести. Именно на эту удочку и поймал Фицдупеля неистощимо изобретательный Меерплут, обещая сделать доверчивого сквайра герцогом в самый кратчайший срок. Блестяще написанный образ Меерплута открывает известную традицию в английской литературе, предвосхитив знаменитого Микобера из «Давида Копперфильда» Диккенса. Само же разоблачение прожектерства в комедии Джонсона готовило почву для едких сарказмов Свифта в третьей части «Путешествия Гулливера». Как и в трагедиях, в комедиях мироощущение Джонсона некоторыми чертами сближалось с маньеристским, отличаясь от него, однако, рационалистической трезвостью взгляда на мир, стремлением подражать природе и явными морализаторскими тенденциями. Было и еще одно очень существенное отличие. Сатира в комедиях Джонсона органически сочеталась со стихией праздничного карнавального веселья, восходящего к народной смеховой культуре средневековья и Возрождения, описанной М. М. Бахтиным. Эта стихия пронизывала собой все зрелые комедии драматурга, где, по мнению А. Т. Парфенова, социально-бытовая сатира выступала даже как элемент праздничного фарсового спектакля. Особенно же ярко карнавальная стихия проявила себя в знаменитой «Варфоломеевской ярмарке», действие которой разворачивалось непосредственно в атмосфере праздничной ярмарочной суеты, особым образом оттенявшей фигуры комических плутов и глупцов. В пьесе нет главных героев, и различные сюжетные линии лишь условно связаны друг с другом; в центре же внимания драматурга стоял гротескный образ самой Варфоломеевской ярмарки как символа бурлящей и вечно возрождающейся жизни.
Традиции Ренессанса питали и творчество двух других драматургов начала XVII века — Томаса Хейвуда и Томаса Д е к к е р а. Их излюбленным жанром была не сатирическая комедия нравов в духе Джонсона, но популярная еще в 90-е годы романтическая комедия. Однако этот жанр в интерпретации Хейвуда и Деккера приобрел новые черты, существенно отличавшие их произведения от шекспировской романтической комедии. В поэтически цельном и гармоничном театре Шекспира в одной и той же пьесе на равных жили и афинские подмастерья, и герцог, и сказочные эльфы. У Хейвуда и Деккера такой симбиоз был бы невозможен, поскольку их пьесы, написанные для открытого театра XVII века, были рассчитаны на запросы определенной части зрителей. Это были в основном теснившиеся в партере шумные лондонские подмастерья, а также их хозяева, мелкие буржуа и начинавшие постепенно сближаться с ними в идеологическом плане небогатые джентри. Они были рады увидеть на сцене людей, подобных себе. И для них нужно было и писать не так, как Шекспир, Джонсон или Чэпмен.
*Вольпоне, или Хитрый Лис»(iVolpone: or The Fox») (Комедия нравов, 1605. Пер. П. Мелковой)
Вольпоне (Volpone) — центральный персонаж комедии. Начальные строки вступительного монолога В. о слаждении блеском золота ставят его в один ряд с персонажами, завороженными ослепительным сиянием драгоценного металла, такими, как Мидас Дж. Лили и Варавва К. Марло. Он говорит о власти золота над человеком то же, что шекспировский Тимон Афинский, но с обратным знаком, не досадуя, а наслаждаясь: «Всего прекрасней ты, сильнее дружбы, / Сыновней и родительской любви / И всяческих других земных иллюзий». Но в следующей развернутой реплике В. объясняет свое отличие от всех названных персонажей. Оно заключается в том, что его «больше тешит / <...> искусство хитрое наживы, / Чем радость обладанья». В. не занимается производством товаров, он не купец и не ростовщик, обирающий вдов, мотов и сирот. Он не скуп и умеет пользоваться богатством в свое удовольствие, одаривая своих приближенных. Он обогащается теми дарами, которые приносят ему добровольно визитеры, знающие, что у В. нет наследника, и надеющиеся получить все его состояние после его смерти. Для того чтобы увеличить приток подношений, В. поддерживает в каждом визитере веру в то, что именно он является единственным претендентом на наследство, и с этой же целью объявляет себя смертельно больным. Визитеры начинают соперничать друг с другом в щедрости. У В. есть помощник — Моска (mosca — мошка), который ассистирует ему в умении притворяться мнимым больным (мотив разработан Мольером), он ловко задерживает пришедших проведать «умирающего» в случае, когда тот не успел принять надлежащую позу и вид, а затем обсуждает с В. слабости посетителей. Давая оценку действиям своих визитеров, В. говорит, «сама себя наказывает скупость». А Моска уточняет: «При нашей помощи». Моска не менее осведомлен о волшебных свойствах золота. Ему принадлежат слова: «Что ж, золото — известное лекарство; / Любой развеет неприятный запах; / Оно урода превратит в красавца <...> / Оно краса, веселье, юность мира» (V, 1). Первым с визитом является адвокат Вольторе (voltore — коршун). Он принадлежит к тому типу людей, которые имеют «способность / Высказывать в одно и то же время / О каждом деле два различных мненья, / Отстаивая их до хрипоты <...> Им так легко, что хочешь повернуть, / Перевернуть, и спутать, и распутать, / Подать двусмысленный совет, а плату / И с правых и с виновных взять». Он приносит «роскошный кубок, / Огромный, старинный, толстый», на котором предупредительно вырезан герб и имя В. Мнимый больной интересуется, нет ли на нем изображения лисы, смеющейся над каркнувшей вороной, тем самым соотнося свои плутни с басенным Лисом и низводя своего клиента Коршуна до уровня глупой Вороны.
Вторым претендентом на наследство В. становится «недужный, дохлый» старик Корбаччо (corbaccio — ворон). Во 2-м действии IV акта Моска говорит о нем: «Гнилые мощи! Чем он так ужасно / Природу в юности обидеть мог, / Что заслужил такую старость!» В. кажется странным, что старик «Жизнь продлить любой ценой хотел бы <...> / Однако он при этом забывает, / Что обмануть судьбу куда труднее, / Чем самого себя». Корбаччо приносит лекарство, от которого В. отказывается, боясь быть отравленным. В этом случае он поступает согласно совету запечатленного в пьесе Дж. Лили «Кампаспа»; когда Диогена спрашивают, что бы он посоветовал всем страждущим, тот отвечает «Следить за тем, чтобы лекари не были наследниками». Эту тему развивает Моска, утверждая, что его хозяин «заявлял / Торжественно не раз, / что уж врачу наследства не отдаст <...> / И даже за визиты / Он им не платит лекаря, мол, рады / Содрать с больного перед тем, / Как умертвить его <...> / Для опытов, мол, умертвить готовы». Опасения В. недалеки от истины. Корбаччо несколько раз будет пытаться вступить в сговор с Моской, с тем чтобы приблизить смерть «умирающего». Видя нетерпение Корбаччо, Моска советует ему составить завещание на имя В., чтобы тот, растрогавшись, совершил равный по значимости ответный шаг. Так, составленное завещание оставляет без наследства сына Корбаччо, Бонарио (bonario — добрый, хороший). Моске видится развитие интриги в том, чтобы разгневанный Бонарио поднял руку на отца, оказался осужденным, а В. стал обладателем двойного наследства. С этой целью он сообщает сыну о том, когда его отец принесет заверенное завещание в дом В.
Третий претендент на наследство — купец, голландец-щеголь Корвино (corvino — вороненок. Известен басенный сюжет о вороненке, который, не соразмерив силы, во время охоты вцепился в огромного барана, запутался в его шерсти и сам оказался пойманным пастухами, ему обрезали крылья и бросили на потеху детям). Он приносит в дар В. чистейший, без изъяна жемчуг, какого не знала Венеция, и бриллиант в две дюжины карат. Корвино представляет собой традиционный тип ревнивца, который упрекает свою жену за то, что та смела стоять у окна, выходящего на людную площадь, с которой на нее любой мог смотреть с вожделением. Он утверждает, что если бы был итальянцем, то непременно обратился бы к традиции кровной мести, защищая свое достоинство от женского легкомыслия. Он намечает следующие меры предосторожности: «Загорожу, во-первых, окна-сводни / Забором; дальше в двух саженях мелом / Провесть черту велю и, если ты / Переступить ее посмеешь сдуру <...> / Замок отныне на тебя повешу» (II, 1). О красоте его жены, прекрасной и чистой Челии (celia — небесная), вдохновенно рассказывает Моска: «Италии блестящая звезда, / Красавица, созревшая для жатвы, / Белей, чем лебедь, с головы до пят, / Белее снега, лилий, серебра <...> / Подобно золоту она сверкает, / Желанна и прекрасна, как оно». Это не единственное сравнение Челии с золотом. Далее, рассказывая В. о взаимоотношениях супругов Корвино, Моска говорит «Муж так ее усердно охраняет,/ Как вы храните золото свое» (1,1). В, переодетый доктором-шарлатаном, появляется на улице под окнами Челии и превозносит целебные свойства якобы составленного им эликсира (II, 1). Ему удается увидеть в окне Челию и послать ей вместе с порцией снадобья записку. В. позволяет Моске взять столько золота и камней, сколько нужно, чтобы стало возможным осуществление возникших в нем, Хитром Лисе, желаний, связанных с Челией. В Корвино борются две страсти: ревность и страсть к наживе, и последняя побеждает, когда хитрый Моска заявляет, что консилиум врачей постановил: В. должна согреть своим теплом молодая жен щина, и предлагает Корвино, чтобы заслужить благодарность «умирающего» обладателя значительного состояния, не пожалеть прислать к нему свою жену, тем более что В. немощен и такой визит будет безопасен и не повредит ничьей чести. Корвино сам приводит жену в дом В. и оставляет с ним наедине (II, 1). Свидетелем непристойных приставаний В. к Челии становится находящийся в укрытии Бонарио, который приходит для того, чтобы убедиться, что его отец, Корбаччо, действительно собирается оставить его без наследства. Бонарио вступается за прекрасную незнакомку и отправляется вместе с ней в суд: она подает иск против недостойного поведения мужа, он — против вероломства отца.
Сцена в сенате (IV, 1) становится в пьесе кульминационной. В ней сталкиваются интересы всех ее персонажей. Моска так выстраивает ход судебного разбирательства, что все претенденты на наследство В. заинтересованы в том, чтобы дать ложные показания. Адвокат Вольторе, вопреки своим профессиональным обязанностям, обвиняет Челию и Бонарио в постыдной связи и утверждает, что именно за это молодой человек был лишен отцом наследства. Корвино, подтверждая сказанное адвокатом, принародно объявляет себя рогоносцем, считая, что в таком признании больше чести, чем в сплетнях толпы, к тому же он надеется, что, за испачканное честное имя, свое и жены, ему будет отплачено сторицей, когда он получит наследство В.
