Музыкальное имя» в историческом контексте
Собственные имена существуют в музыкальном искусстве с давних времен. К наиболее ранним образцам зашифрованного «музыкального имени» относят, например, тему мессы Жоскена Депре (ок. 1440—1521) «Hercules dux Ferrariae». Это сольмизационная тема-символ, выведенная из имени и титула покровителя композитора — герцога Феррарского[4]:
Her – cu – les dux Fer – ra – ri(a) – e
re ut re ut re fa mi re
D C D C D F E D
Не менее интересный пример — «музыкальная подпись» (на нотном стане) Орландо Лассо (ок. 1532—1594), которую он поставил в конце одного из писем своему покровителю и другу баварскому принцу Вильгельму. «Ребус Лассо» разгадывается следующим образом: нотные бревисы соответствуют звукам ля и соль (Лассо); бемоль же – условный знак ключа, обозначающего высотное местоположение гексахорда фа (то есть снизу – полутон, а сверху – тоны).
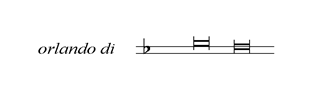
Энигматика подобного рода была весьма характерна для музыки эпох Средневековья и Возрождения. Традиция «музыкальных букв» могла выражаться в шифровании чужого имени или в форме собственных музыкальных автографов, которые носили эзотерический характер: не воспринимаясь непосредственно на слух, они служили ясным знаком в основном для посвященных.
Далее, в эпоху бароккос ее эмблематикой, риторикой, теорией аффектов культивируется один из главных принципов этого времени в музыкальном искусстве — опора на слово. Евангельский тезис «В начале было Слово» становится фундаментальным для многих композиторов. Например, в творчестве И. С. Баха «слово» предстает в различных формах: явных и скрытых, как числовой символ и как символ интонационный — в форме музыкально-риторической фигуры.
Для искусства барокко (в частности, поэтического) характерным стало зашифровывание авторами своего имени — как излюбленный прием «игры» с именем, своеобразная «псевдонимность». По словам А. В. Михайлова: «Быть другим», то есть «не быть самим собою» — это «судьба общая для всех людей» в эпоху барокко (курсив автора.) [Михайлов 1997, 135]. Авторство в таких случаях принадлежало не столько самому художнику, сколько произведению, конечно, — метафорически. Самым частым способом «псевдонимности» оказывалась анаграмма имени.
О музыкальном искусстве эпохи барокко можно говорить, что и имя собственное во многих случаях приобретает характер музыкально-риторической фигуры. Яркий тому пример — монограмма И. С. Баха ВАСН. С риторической фигурой креста, распятия — символического знака Страстей господних — ее роднит почти тождественный графический рисунок мотива (два крайних полутона нанизываются на скрепляющую их малую терцию).
В эпоху барокко за музыкальным именем-монограммой закрепляется стабильная семантическая определенность, не подвергающаяся смысловым «модуляциям» и изменениям. Имя собственное в барочной музыке используется, как правило, в двух жанрах: импровизационной Фантазии (прелюдии) и конструктивной, рационалистической Фуги. «Главным именем» этой эпохи становится, конечно, имя Баха.
На протяжении следующих столетий, вплоть до сегодняшнего времени, музыкальное имя Баха будет символом творчества, вдохновения, высокого духа, вневременного бытия, то есть определенным смысловым концептом. Особенно весомо в контексте музыки Новейшего времени звучат слова А. Шенберга: ВАСН — «… символ имени Баха, к которому охотно взывает всякий, как к святому покровителю при выполнении смелой задачи» [Шенберг 2006а, 345].
Любопытно, что в контексте исторической парадигмы музыкальные имена-шифры в эпоху классицизма парадоксальным образом отсутствуют. Казалось бы, классическая эпоха с ее дифференцированной аффективной системой, унаследованной от барокко, должна была стать более естественной почвой для освоения музыкальных шифров. Однако, классицистское мышление — с его рационализмом, логикой, равновесием чувственного и интеллектуального начал — диктовало другие процессы: стабилизация жанровой системы, музыкальной формы, четкой функциональности, гармонической ясности изложения. Все это сформировало определенный тип композиторского мышления, когда необходимо высказываться максимально понятным, ясным языком, без какой-либо тайнописи. Если эпоха барокко являлась эпохой слова и поиска его интонационного эквивалента в музыке, то классицизм — это эпоха, когда собственно музыкальная логика (независимая от слова, ритуала и т.д.) и чисто музыкальная системность заявили о себе в полную силу. Поэтому для композиторов эпохи классицизма сферой воплощения музыкального (интонационного) смысла является музыкальная грамматика, а именно иерархическая функциональная система гармонии, тонально-гармонический фундамент музыкальной формы. Отсюда — предпочтение композиторов в классицистской эпохе к сочинению инструментальной музыки («абсолютной» музыки).
Известным фактом обращения к монограмме, пожалуй, является лишь интерес Л. Бетховена к имени Баха. Имеются в виду наброски Увертюры (фуги) на ВАСН (которые, правда, так и остались незавершенными). Кроме того, исследован комплекс мотивов из Тринадцатого (ор.130) и Пятнадцатого (ор.132) квартетов, а также Большой фуги (ор.133), родственных монограмме ВАСН [Гиршман 1993, 20—27].
Эпоха романтизма вновь возродила к жизни именные музыкальные фигуры. «Открытие» музыки Баха композиторами-романтиками (после более чем полувекового забвения) соответственно вызвало интерес к барочной грамматике и эстетике. Композиторы XIX века повернулись вновь к слову, к вокальности, к программности. Фактически в эпоху романтизма возрождается практика риторической музыкальной речи, символической и эзотерической манеры высказывания, идея тайны, игры. Но все это происходит на новом уровне: личностно-индивидуальное, эмоционально-образное начало в музыке порождает свой корпус музыкальных лексем, лейтмотивов, лейтинтонаций, монограмм, опираясь при этом на классицистскую «самодостаточность» музыки, на ее «внутренние» языковые слои именования, на специфические, непереводимые «поля» смысла [Зенкин 2003, 52].
Имя Баха, окруженное ореолом величия, возрождается в произведениях композиторов-романтиков. Приблизительно в одно время с квартетами Бетховена была создана Месса Еs-dur Ф. Шубертом, в которой присутствуют мотивы ВАСН: в фуге (Moderato), второй части (Gloria) и шестой части (Agnus Dei) [см.: Гиршман 1993, 27—33].
Интерес к символико-звуковым сочетаниям особенно характерен для творчества Р. Шумана. Сам композитор называет себя «загадывателем шарад». В сочинениях Шумана шифруется не только личное имя — ASCH («Карнавал», «Сфинксы»), но и другие имена: Gade, ABEGG, Клара Вик (С), название чешского города Аш.
Подчеркнем, что в эпоху романтизма, в связи с интересом к внутреннему, утонченному психологическому миру человека, семантическая значимость монограммы приобретает личностный, субъективный оттенок; семантика имени-монограммы может оставаться постоянной на протяжении всего произведения, а может и трансформироваться; в целом в сочинениях XIX века монограмма не привносит в музыку эффекта стилевого контраста в качестве «чужого слова».
В русской музыке конца XIX — начала XX веков также заметен усиленный интерес композиторов к тайнописи именами (Н. Римский-Корсаков, А. Лядов, А. Глазунов, А. Бородин)[5].
Какова же судьба имени собственного в музыке ХХ и начала XXI веков?
В минувшем столетии развитие музыкального искусства шло, как известно, разными путями. Один из них — изменение композиторской техники в сторону все большей эзотеричности, конструктивности музыкального языка. Об изменении парадигмы художественного мышления со всей очевидностью свидетельствует музыка авангарда. Интерес композитора в ХХ веке сосредоточен на структурных формулах языка, своеобразном звуковом умозрении. По мысли А. Порфирьевой, музыкальная культура ХХ века являет собой «… новое «инженерное» отношение к музыкальному наследству как репертуару функций, с помощью которых следует построить нечто совершенно новое» [Порфирьева 1990, 173].
Индивидуальное выражение, столь почитаемое в XIX веке, — воплощение реальной эмоции, реальных образов, красок, — отступает на задний план. Новый мир — разноуровнев: и видимое, и прозреваемое (интуитивное, созерцательное, медитативное), и мифологическое (исторически-вертикальное сознание), и мистическое.
Одной из центральных черт художественного мышления стало очевидное перекрещивание различных знаков прошлых стилей (имен, символов, явлений), кодов прошлых систем. Например, Веберн возвращается к «абстрактному символизму старой полифонии», а Шнитке декларирует полистилистику как новый виток неоклассицизма первой половины ХХ века в многочисленных знаках и «фигурах» барокко и романтизма.
В ХХ веке интерес композиторов к именам-монограммам обнаруживает новые цели и функции по сравнению со средневеково-барочными системами тайнописи или с опосредованным использованием монограмм в музыке романтиков. А именно: не столько сокрытие некоего тайного смысла, и не только звучание конкретной интонации композиторского стиля (BACH, DSCH, EDS), но и «вхождение» музыкальной эмблемы в новую постмодернистскую игру, в которой «свое»/«чужое» порою не различимо, даже «переворачивается» по смыслу (Ж. Деррида), вплоть до культа антииндивидуального, антиавторского, где игра находится в контексте «потока сознания», в котором все перемешано, условно, прежние символы теряют свой изначальный смысл, автор-композитор говорит «не языком, а о языке» [Барт 1994, 476]. Происходит разрушение освященной традицией музыкальной логики: «отказ от модели целостного организма и идеи эстетического единства ради категории фрагмента» [Данузер 1994, 145], игра моделями, языками, методами действий.
Ономафония.
По мере исторического развития, появления новых композиционных техник, объект нашего исследования — музыкальное имя-шифр, его функционирование в музыкальных текстах — видоизменяется. Соответственно появляются новые проблемы, новые аспекты анализа и описания. Для раскрытия сущности процесса музыкального шифрования оказалось возможным привлечь терминологический аппарат и методы исследования лингвистической науки. Поэтому термин «монограмма» (закрепленный за определенной исторической эпохой), на наш взгляд, требует терминологического (этимологического) уточнения.
В связи с тем, что под «монограммой» понимается достаточно широкий круг явлений (вербальный шифр, живописно-изобразительный шифр, музыкальный шифр), а также в связи с тем, что понятие «музыкальная монограмма» вбирает в себя не только шифр имени собственного, но и тайнопись различных явлений (обозначение городов, каких-либо понятий, целых фраз), — представляется необходимым конкретизировать феномен кодирования имени музыкальными звуками термином ономафония.
Этимологический анализ предлагаемого термина дает следующий результат: собственное имя (калька лат. nomen proprium, которое в свою очередь является калькой с греч. ὄνομα κύριον, то есть «оним» — от греч. ὄνομα (ónoma), эолийского греч. ὄνυμα (ónyma) — имя, название) шифруется музыкальными звуками («фон» — от греч. φωνή — звук). Связь этих двух значений представляет установление понятийных границ явления, не отменяя общепринятой терминологии, а лишь уточняя и конкретизируя смысловую дефиницию.
Применение термина ономафония возможно и в общем, и в конкретно-специфическом смысле. В первом случае с термином ономафония нами связывается вообще процесс «перевода», транскрипции имени собственного, как некоего вербального текста, в систему музыкальных знаков (например, буква соответствует тону определенной высоты).
Но есть другой, конкретно исторический аспект использования именно такого термина в новых условиях музыкального искусства ХХ—ХХI веков.
В ходе истории музыки зашифрованные коды-имена претерпевали изменения и в принципах конкретного функционирования в музыкальных текстах, и в той роли и смысловой нагрузке, которую они выполняли в музыкальном произведении, и даже в причинах и предпосылках авторского употребления шифров. Несмотря на тот факт, что имя собственное шифруется в музыке издавна, с течением времени музыкальная «номинация» именами собственными стала особенно актуальной. В XX и XXI веке этот феномен оказался в эпицентре интересов композиторского творчества.
Одна из тенденций в композиторской практике ХХ века — использование монограмм с соблюдением высокой традиции почтения имени, «вписанного» в монументальную симфоническую концепцию: например, симфонии Шостаковича, Concerti grossi и симфонии А. Шнитке, Пятая симфония Б. Тищенко, Реквием В. Сильвестрова и др.
Новой тенденцией в музыкальном искусстве ХХ века является возникновение множества произведений (часто небольших масштабов) мемориального жанра, в которых имя-шифр составляет почти единственный звуковой материал. Такие композиции воспринимаются как цельный музыкальный знак, как символ памяти и высоты творческого духа. Например, целый ряд фортепианных пьес разных авторов, появившийся сразу после кончины Д. Шостаковича, — «музыкальных приношений» ему (часто названных «DSCH»), а также — «Прелюдия памяти Д. Шостаковича» А. Шнитке, «Элегия памяти Эдисона Денисова», «Постлюдия памяти Альфреда Шнитке» Д. Смирнова и многие др.
Скажем и об еще одной оригинальной тенденции в Новейшей музыке[6] — манера писать в жанре «Краткой истории музыки» или «Путешествия по истории музыки». Существуют и другие названия: «Странствия по истории музыки» (М. Кундера), «Прогулки по истории» (С. Савенко). Композитор В. Тарнопольский связывает такой жанр с «культурологическим» типом мышления, с опытом «музыкальной герменевтики», методом «комментирования» известных текстов [Савенко 1999, 51—52]. История в этих сочинениях, как правило, передается через исторические имена, а имена, в свою очередь, репрезентируют стили исторических эпох. Приведем примеры. В балете Б. А. Циммермана «Музыка для застолья короля Юбю» используются монограммы различных представителей Западноберлинской академии искусств; «сюжетная программа» присутствует в Камерном концерте А. Берга, представляющем своего рода «беседы» трех персонажей — А. Шенберга, А. Веберна и А. Берга. В Третьей симфонии А. Шнитке представлена история немецкого музыкального искусства в последовательном «рассказе» о многих великих его представителях. В структуре этой симфонии (по жанру программной или, по терминологии А. Вобликовой, «панорамной» симфонии [Вобликова 1989, 84]) использованы более 30-ти имен австро-немецких композиторов, топонимов (Deutchland — Германия, Leipzig — Лейпциг), а также имен нарицательных (Erde — Земля, das Böse — Зло). В Струнном квартете № 6 Д. Смирнова именные мелодии-монограммы составлены по избранной композитором авторской буквенно-звуковой системе музыкального алфавита, объединены 85 имен-монограмм в жанре «краткой истории музыки», композитор распределяет их по исторической хронологии, национальным школам.
Можно говорить об изобилии использования имен-монограмм композиторами в музыкальной практике ХХ века. Но это оборачивается и негативной стороной, что является в определенном смысле, «издержкой» метода работы с шифрами-монограммами. Некоторые современные композиции строятся на основе лишь структурной «игры», даже абстрактного «жонглирования» именами прошлых эпох и стилей. Эти имена предстают во все новых, порою парадоксальных контекстных условиях. Порою создается ощущение, что имена собственные в новой культурной ситуации становятся именами нарицательными, настолько теряется их личностная индивидуальность. Это — некая общая тенденция постмодернистского мышления в ХХ веке: традиционный метод шифрования имен эксплуатируется столь часто, а приемы работы с ними столь изощренные, что изначальный высокий помысел может и исчезнуть.
В этих условиях, помимо традиционного понимания прием шифрования имени приобретает новые черты, вписывается в новую систему взаимосвязей — и содержательных, и структурно-синтаксических.
Понятие ономафония охватывает более широкую смысловую и структурную панораму, чем монограмма. Ономафония — это не только «звучащее имя», но и «озвучивание» действительности, реальности именами. Монограмма — аббревиатура конкретного имени-отчества-фамилии. Понятие ономафония характеризует диалогические связи эпох в современном искусстве с большей глубинной (мифологической) амплитудой, как бы с «высоты» новейшей истории; в новом художественном контексте этот термин характеризует атмосферу интертекстуальности, полистилистичности.
Если в барочных, романтических музыкальных текстах монограмма персональна, реальна, т.е. это единичный и конкретный «предмет»-персонаж, то в новой постмодернистской ситуации ономафония — одно из существенных средств художественного высказывания, один из самых действенных методов воплощения диалога исторических эпох. Постмодернистская позиция современного композитора — это не столько создание своего авторского стиля, новой техники, абсолютно нового содержания, сколько оперирование средствами и моделями уже созданного в прошлом, в том числе именами истории.
Новым в сопоставлении феноменов «монограмма» — «ономафония» является то, что ономафоническая формула нередко утрачивает свой личностно-индивидуальный ореол и наделяется абстрактной отвлеченностью от «предмета» (персонажа, символа), становится лишь структурным знаком в игровой концепции художественного текста.
Даже собственно музыкальное прочтение монограмм становится условным и субъективным. Так, композитор Д. Смирнов предлагает прочитывать многочисленные монограммы в своих композициях сообразно своему «личному» криптофоническому алфавиту; а значит «точное» прочтение доступно лишь ему самому или – лишь после детального ознакомления с его шифром-алфавитом, то есть через внемузыкальные манипуляции. Если учесть, что современные композиторы используют каждый свой алфавит (Д. Смирнов, И. Соколов, С. Загний), то следует признать, что имена истории прочитываются произвольно («по воле» автора композиции), вариативно, с большой долей условности, вымышленности.
Все чаще имя (монограмма) из сакрального символа превращается в отвлеченную модель-знак, абстрактную риторическую фигуру, используется как некий первоэлемент музыки (в роли таких первоэлементов, например, в минимализме используются, звукоряд, трихордовая интонация, обертоновый ряд), с которым композитор работает в технике, подобно ars combinatoria барокко, с изощренностью находя все возможные пермутационные и комбинаторные варианты исходного «паттерна»[7] (монограммы).
Итак, с точки зрения теоретического обоснования термина ономафония, он, с одной стороны, этимологически сходен с монограммой (и ее эквивалентами), и потому может использоваться широко, — как общая тенденция музыкального языка (разных эпох и стилей).
С другой стороны, это — термин уточняющий, имеющий отношение к новой реальности постмодернистского сознания. Эту реальность часто характеризует «надстилевое», внеавторское мышление, сознательно допускающее даже идею «смерти автора». Это продукт поставангардного мышления, создающего свою систему языка.
