Художественное своеобразие произведения
Основная ценность «Хождения за три моря» состоит в том, что его автор впервые познакомил русских читателей с реальной Индией, которая оказалось весьма мало похожа на ту сказочную и богатую, управляемую православным государем страну, которую они знали по переводному «Сказанию об Индийском царстве». Любопытно «Хождение» и с точки зрения автора-путешественника, особенности его восприятия и умения ориентироваться в незнакомой обстановке. Так, в начале своих странствий тверской купец, весьма удивленный всем увиденным, заносит в свои записи самые простые впечатления о внешнем виде индийцев, их укладе и климате их страны. «И тут есть Индийская страна», – пишет Афанасий Никитин, «и люди ходят всѣ наги... А мужики и жонкы всѣ нагы… А князь ихъ − фота на головѣ, а другая на гузнѣ… Зима же у них стала с Троицына дни. В тѣ же дни у них орют (т. е. пашут) да сѣют пшеницу». В это время он еще явно находится под влияниям своих знакомцев – мусульманских купцов, так как поначалу в своих записках называет индусов кафарами, т. е. по-персидски «неверными». Позже, он станет именовать коренных жителей Индии «гундустанцами» или «индиянами».
Порой в тексте «Хождения» отчетливо видно переменчивое настроение автора. Так, вначале натерпевшись вдоволь неприятностей от самых разных обитателей Индии: и от мусульман, которые упорно хотели обратить его в свою веру, и от разбойников-кафаров, − и, оставив надежду на быстрое возвращение домой, тверской купец дает этой стране самую резкую характеристику. Вот она: «а на Рускую землю товару нѣт. А все черные люди, а все злодѣи, да вѣди (колдуны), да тати, да ложь, да зелие (т. е. яд)».
Однако постепенно невольный путешественник начинает подробнее разбираться в особенностях индийской жизни. Оказавшись преимущественно в той части Индостана, которая в XV столетии находилась под властью выходцев с Ближнего Востока, он записывает следующее наблюдение: «В Ындѣйской земли княжат все хоросанцы, и бояре всѣ хоросанцы. А гундустанцы все пѣшеходы…». Одним из ограничений для иноверцев, действовавшим в средние века на покоренных мусульманами территориях, действительно был запрет ездить верхом. Именно этим обстоятельством, которое русский купец поначалу не знал, и могли быть объяснены возникшие у него неприятности. Позже он добавляет еще одну подробность: «…а сельскыя люди голы велми, а бояре силны добрѣ и пышны велми».
Поначалу русский путешественник еще, видимо, очень легковерен и принимает за правду все, что рассказывают ему окружающие. Так в его записки попадает местное поверье о птице Гукук и обезьяньем царе. Позднее, он ближе познакомится с индусами и оставит нам, помимо описания торжественного выезда султана в Бидаре, еще и любопытные этнографические зарисовки индуистских обычаев, и храма Шивы в Парвати. «А бутхана (т. е. кумирня, собрание идолов) же велми велика есть, с пол-Твѣри…».
Особого внимания заслуживает отношение Афанасия Никитина к вопросам веры. Оказавшись в чужой стране, населенной самыми разнообразными жителями, он, похоже, готов принять как совершившийся факт наличие в мире разных религий, и даже в чем-то сопоставить их. Например, о съезде индусов на праздник Шивы автор говорит: «…то их Ерусалимъ, а по бесерменьскый Мягъкат… а по индискыи – Пурват». При этом любопытно, что если зачастую к агрессивным в вопросах веры мусульманам автор испытывает определенную неприязнь, то к местным индуистам скорее своеобразный этнографический интерес путешественника. В любом случае в описаниях тверского купца мы не найдем ничего общего с тем набором нелестных эпитетов, которым обыкновенно награждали персонажей-иноверцев древнерусские книжники. Единственным объектом порицаний за несовершенство веры в «Хождении» оказывается сам автор, чьи размышления по этому поводу порой напоминают плач: «О благовѣрнии рустии кристьяне! (т. е. христиане) Иже кто по многим землям много плавает, во многия беды впадают и вѣры ся да лишают крестьяньские». На страницах своих записок Афанасий Никитин то и дело сокрушается о собственных грехах, жалуется, что не может без книг вычислить время постов и великих праздников, однако же подчеркивает, что, прожив четыре года в чужой земле, «а крестьянства не оставих», по-видимому, не имея возможности на чужбине в полной мере исполнять все христианские обряды, тверской купец формулирует для себя своеобразный компромиссный минимум в вопросах веры: «А праваа вѣра Бога единаго знати, и имя его призывати на всяком мѣсте чисте чисто». Однако очевидно, что подобные 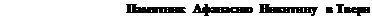
 философские рассуждения являются для Афанасия вынужденными, по крайней мере на всем протяжении своих странствий герой не оставляет попыток соблюдать Великой пост, а также ведет отсчет времени по церковному календарю, обозначая те или иные события по близости их к христианским праздникам – Пасхе, Покрову, Рождественскому посту.
философские рассуждения являются для Афанасия вынужденными, по крайней мере на всем протяжении своих странствий герой не оставляет попыток соблюдать Великой пост, а также ведет отсчет времени по церковному календарю, обозначая те или иные события по близости их к христианским праздникам – Пасхе, Покрову, Рождественскому посту.
Судя по активному интересу Афанасия Никитина к индийской торговле, можно предположить, что у него на чужбине какие-то дела и что он надеялся заработать денег на обратную дорогу домой. Если принять эту версию, становится понятна еще одна перемена авторского настроения, когда восторженные отзывы тверского купца о восточных рынках, где все дешево неожиданно вновь сменяются жалобами на индийскую дороговизну. Вероятно, цены, приемлемые для торговых сделок, показались рачительному негоцианту чересчур высокими, едва речь зашла о простом содержании праздного путешественника, который, собираясь домой, свернул свои дела. В любом случае побоявшись в Индии «исхарчити собину», т. е. поиздержаться, проесть имущество Афанасий Никитин, вероятно, подошел к границам Руси, будучи не намного богаче, чем когда её покинул.
Новгородские повести
Вначале лекции говорилось, что в домосковской Руси существовало множество параллельно развивающихся книжных традиций, когда в каждом удельном княжестве работали свои летописцы, переводчики и списатели книг. Произведения областных литератур обращали большее внимание на местные события, а составители местных летописей нередко давали разнообразным происшествиям такую трактовку, которая представляла выгодном свете того или иного удельного государя. Наиболее значительным числом памятников представлена новгородская областная литература. Этому есть историческое объяснение – появившись на карте Руси едва ли не раньше Киева, Новгород более остальных русских территорий до самого конца XV столетия сохранял свою независимость от Москвы, при этом нередко проводя резко антимосковскую политическую линию. К числу произведений новгородской литературы относят обыкновенно жития местных святых, несколько повестей, в частности, «Сказание о битве новгородцев с суздальцами» и новгородскую повесть о походе Ивана III на Новгород. Существует также московское сочинение о тех же событиях. Однако наибольшую славу новгородской областной литературе составили как раз те произведения, о раннем новгородском происхождении которых исследователи в последние годы склонны высказываться скептически, – «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим» и «Повесть о белом клобуке».
«Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим» дошла до нас в составе одной из редакций жития этого первого новгородского архиепископа. Житие Иоанна состоит из трех частей, в первой из которых повествуется о битве новгородцев с суздальцами, в третьей – об обретении мощей святого в 1440 году, вторую часть составляет повесть о путешествии. При этом каждый эпизод обладает самостоятельной законченной композицией и часто в списках они встречаются по отдельности. По всей видимости, время возникновения разных частей жития различно.
Содержание первого отрывка восходит к воспоминанию о чуде новгородской иконы «Знамения Богородицы», над которым в 1430-е годы работал Пахомий Серб, и этим обстоятельством, видимо, объяснятся указание на авторство Пахомия в одном из списков XVII века, из-за чего исследователи начала XX столетия ошибочно считали весь текст жития сочинением этого книжника.
Время возникновения «Повести о путешествии» еще сложнее. Очевидно, что оно основывалось на какой-то местной легенде, но, когда та могла быть записана, определить невозможно. Умерший в 1186 году архиепископ Иоанн был весьма почитаем в Новгороде, а мотив заклятия беса крестным знамением, на котором построено повествование о святом, имел широкое распространение в средневековой литературе. Рассказы о бесах, возводящих клевету на разных подвижников, имели хождение и в Древней Руси. Они встречаются, например, в написанном не ранее XV века житии Авраамия Ростовского и в повести о Василии, епископе Муромском, принадлежащих перу известного автора середины XVI столетия Ермолая Еразма. Однако хоть как-то помочь датировке повести эти памятники не могут, так как сами восходят к житию Иоанна Новгородского. Наиболее ранний дошедший до нашего времени список жития датируется 1494 годом. Поэтому время возникновения «Повести о путешествии» принято относить к 50-70 годам XV столетия.
В дальнейшем «Повесть об Иоанне Новгородском» пользовалась неизменным успехом у русского читателя. До нас дошло множество её списков. Она была включена Четьи-Минеи Дмитрия Ростовского и встречалась в рукописной традиции вплоть до XVIII века. Параллельно продолжалось устное бытования сюжета о чудесном путешествии. Рассказ о полете на бесе в Иерусалим какого-то архимандрита был включен в народные русские легенды Афанасьева, проявляли интерес к «Повести» и русские писатели XIX века. Её сюжет был использован Пушкиным в юношеской поэме «Монах» и Гоголем в повести «Ночь перед Рождеством».
«Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе в Иерусалим»
