Newborn pop star wins pin ball contest 2 страница
ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ МУССЛИН
Взять триста граммов земляники или клубники. Протереть через мелкое венецианское сито. Смешать с двумястами граммами сахарной пудры. Перемешать и в полученную массу добавить пол-литра хорошо взбитых сливок. Залить массой круглые бумажные формочки и оставить охлаждаться на два часа в обложенных льдом емкостях. Перед тем как подать на стол, украсить каждую порцию большой клубникой.
Ёсимицу и сам сидит на пятках, но от острых кубиков не испытывает никакого неудобства. В руках он держит маленькую бутылочку апельсинового сока, из которой поднимаются вставленные одна в другую соломинки, а верхняя доходит до его губ.
Смотф подсчитал, что к 1978 году секта «Три Свободных Человека» примет еще две тысячи сто восемьдесят семь новых адептов и — если предположить, что к этому времени ни один из старых учеников не умрет, — будет насчитывать три тысячи двести семьдесят семь приверженцев. Затем их численность станет увеличиваться еще быстрее: к 2017 году девятнадцатый выпуск будет включать в себя более миллиарда индивидуумов. К 2020-му посвященными окажутся все люди, живущие на этой планете и даже далеко за ее пределами.

В квартире на четвертом этаже справа нет никого. Ее владелец — некий господин Фуро, который жил в Шавиньоле, что между Каном и Фалезой, в своем имении с замком и фермой на территории в тридцать восемь гектаров. Несколько лет назад телевидение снимало там драму под названием «Шестнадцатая грань этого куба»; Реми Роршаш присутствовал при съемках, но самого владельца так и не встретил.
Похоже, его вообще никто никогда не видел. Ни на его входной двери, ни в списке жильцов на двери консьержки его фамилии нет. Ставни этой квартиры всегда закрыты.
Глава IV
Маркизо, 1
Пустая гостиная на пятом этаже справа.
На полу ковер из сизаля, чьи волокна переплетаются таким образом, что получается орнамент в виде звезды.
Обои имитируют рисунок набивной ткани Жуй, с большими четырехмачтовыми португальскими парусниками, оснащенными пушками и пищалями, — корабли готовятся зайти в порт; ветер раздувает большой фок и бизань; забравшиеся на реи моряки убирают остальные паруса.
На стенах висят четыре картины. Первая, натюрморт, несмотря на современную манеру письма, явно напоминает традиционные композиции на тему пяти чувств, столь распространенные по всей Европе от эпохи Возрождения до конца XVIII века: на столе — пепельница с дымящейся сигарой, книга (можно разобрать название и подзаголовок: «Неоконченная симфония», роман) — но имя автора закрыто, бутылка рома, бильбоке и ваза с сушеными фруктами, грецкими орехами, миндалем, курагой, черносливом и т. п.
Вторая картина представляет ночную улицу в предместье среди каких-то пустырей. Справа — металлическая башня, на перекладинах которой, в точках их пересечений, горят большие электрические лампы. Слева — созвездие, в точности повторяющее форму башни, но в перевернутом виде (основание в небе, верхушка на земле). Все небо в растительных узорах (темно-синих на светло-синем фоне), напоминающих морозные рисунки на стекле.
Третья картина изображает сказочного зверя таранда, первое описание которого дал Гелон Сарматский:
«Таранд — животное величиной с молодого быка; голова у него напоминает оленью, разве лишь немножко больше, с великолепными ветвистыми рогами, копыта раздвоенные, шерсть длинная, как у большого медведя, кожа чуть мягче той, что идет на панцири. В Скифии его можно найти по тому, как он меняет окраску в зависимости от местности, где живет и пасется; он принимает окраску травы, деревьев, кустарника, цветов, пастбищ, скал, вообще всего, к чему бы он ни приблизился. Это придает ему сходство с морским полипом, с тоями, индийскими ликаонами, с хамелеоном, который представляет собой настолько любопытный вид ящерицы, что Демокрит посвятил ему целую книгу, где описал его наружный вид, устройство внутренних органов, а также чудодейственные свойства его и особенности. Да я и сам видел, как таранд меняет цвет, не только приближаясь к окрашенным предметам, но и самопроизвольно, под действием страха и других сильных чувств. Я видел, как он приметно для глаза зеленел на зеленом ковре, как потом, некоторое время на нем посидев, становился то желтым, то голубым, то бурым, то лиловым — точь-в-точь как гребень индюка, меняющий свой цвет в зависимости от того, что индюк ощущает. Особенно поразило нас в таранде, что не только морда его и кожа, но и вся его шерсть принимала окраску ближайших к нему предметов».
Четвертая картина — черно-белая репродукция работы Форбса под названием «Крыса за занавеской». Сюжетом для произведения послужило реальное событие, которое произошло в Ньюкасле-апон-Тайн зимой 1858 года.
Пожилая леди Фортрайт владела коллекцией часов и механизмов, которой она очень гордилась и в которой особенно ценила часики, оправленные в хрупкое алебастровое яйцо. Хранить коллекцию она доверила старейшему из своих слуг, кучеру, который служил ей уже более шестидесяти лет и был в нее безумно влюблен с того самого первого раза, когда ему выпала честь ее куда-то повезти. Свою невысказанную страсть он перенес на хозяйскую коллекцию и — проявляя исключительную искусность — заботился о ней с неистовым рвением; днями и ночами поддерживал в исправном состоянии и отлаживал капризные механизмы, среди которых встречались образцы более чем двухсотлетней давности.
Самые красивые экспонаты коллекции находились в маленькой комнате, отведенной исключительно для этой цели. Некоторые хранились в витринах, но большая часть была развешена по стенам за тонкой кисейной занавеской, защищавшей их от пыли. После того, как неподалеку от замка некий ученый устроил свою лабораторию и — подобно Мартену Магрону или туринцу Велла — принялся изучать на крысах парадоксальное воздействие стрихнина и кураре, кучер перебрался ночевать в смежный с коллекционной комнатой закуток, поскольку ни он, ни пожилая леди не сомневались в том, что на самом деле сей ученый был разбойником, которого занесла в их края исключительно жажда наживы и который вынашивал дьявольские планы с целью завладеть бесценными сокровищами.
Однажды ночью старый кучер проснулся, как ему показалось, от тихого писка, который доносился из комнаты. Он решил, что чертов ученый приручил одну из своих крыс и подослал ее выкрасть часы. Он встал, взял из сумки с инструментами, с которой никогда не расставался, маленький молоток, вошел в комнату, бесшумно приблизился к занавеске и изо всех сил ударил по тому месту, откуда, как ему казалось, исходил звук. Увы, это была не крыса, а великолепные часы, встроенные в алебастровое яйцо, чей механизм слегка разладился и начал едва слышно поскрипывать. Разбуженная шумом леди Фортрайт прибежала на место происшествия и застала там остолбеневшего безмолвного слугу с молотком в одной руке и разбитым сокровищем в другой. Леди тут же вызвала людей и, не дожидаясь никаких объяснений по поводу случившегося, приказала отправить кучера как буйного помешанного в сумасшедший дом. Через два года она умерла. Узнав об этом, кучер сбежал из своей психбольницы, приехал в замок и повесился в той самой комнате, где разыгралась драма.
В этой работе, относящейся к раннему периоду творчества, еще не вполне свободному от влияния Бонна, Форбс весьма вольно обошелся с описанным случаем из криминальной хроники. Он показывает нам комнату, где все стены увешаны часами. Старый кучер в белой кожаной униформе стоит на лакированном темно-красном китайском стуле изогнутой формы и привязывает к потолочной балке длинный шелковый шарф. Пожилая леди Фортрайт стоит в дверях; она смотрит на слугу с выражением крайнего негодования; в вытянутой правой руке она держит серебряную цепочку, на конце которой висит осколок алебастрового яйца.
Среди жильцов дома немало коллекционеров, зачастую превосходящих своей маниакальностью персонажей картины. Вален и сам долгое время хранил почтовые открытки, которые Смотф отправлял ему с каждой стоянки. Одна из таких открыток пришла как раз из Ньюкасла-апон-Тайн, а другая — из австралийского Ньюкасла, что в Новом Южном Уэльсе.
Глава V
Фульро, 1
Шестой этаж, прямо, в глубине: как раз над этим помещением располагалась мастерская Гаспара Винклера. Вален вспоминал о посылках, которые тот получал раз в две недели в течение двадцати лет: даже в самый разгар войны эти одинаковые, абсолютно одинаковые пакеты продолжали регулярно приходить; разумеется, почтовые марки были разными, и консьержка — в то время это была не мадам Ношер, а мадам Клаво — выпрашивала их для своего сына Мишеля; кроме марок ничто не отличало один пакет от другого: та же крафт-бумага, та же бечевка, та же восковая печать, та же этикетка; можно подумать, что перед отъездом Бартлбут приказал Смотфу запастись необходимым количеством папиросной бумаги, крафт-бумаги, бечевки и воска для изготовления пятисот пакетов! Хотя ему, наверняка, даже не пришлось отдавать подобное распоряжение, поскольку Смотф и сам все понимал. Лишний сундук не имел для них никакого значения…
Здесь, на пятом этаже, справа, пустое помещение. Это ванная комната, окрашенная матовой оранжевой краской. На бортике ванны лежит большая перламутровая раковина от жемчужной устрицы, с куском мыла и пемзой. Над раковиной — зеркало в восьмиугольной мраморной раме с прожилками. Между ванной и раковиной стоит складное кресло, на которое брошены кардиган из шотландского кашемира и юбка на лямках. Дверь в глубине открыта в длинный коридор. По нему, направляясь в ванную, идет девушка лет восемнадцати. Она обнажена. В правой руке девушка держит яйцо, которым собирается вымыть голову, а в левой руке — журнал «Леттр Нувель» (№ 41 за июль-август 1956 года), в котором, кроме заметки Жака Лёдерера о «Дневнике пастора» Поля Жюри (издательство Галлимар), опубликована датируемая 1913 годом новелла Луиджи Пиранделло под названием «В пропасти», рассказывающая о том, как Ромео Дадди сошел с ума.
Глава VI
Комнаты для прислуги, 1
Комната для прислуги на восьмом этаже, слева от той, которую, в глубине коридора, занимает старый художник Вален. Комната принадлежит мадам Бомон, вдове археолога, но сама она с двумя внучками, Анной и Беатрис Брейдель, живет в большой квартире на третьем этаже, справа. Младшей, Беатрис, семнадцать лет. Будучи способной и даже блестящей ученицей, девушка готовится к поступлению в Севрскую высшую педагогическую школу. Она добилась от строгой бабушки разрешения если не переселиться в эту отдельную комнату, то, по крайней мере, приходить сюда заниматься.
Пол выложен красной терракотовой плиткой, на стенах — обои с разнообразными рисованными кустарниками. Несмотря на тесноту комнатушки, Беатрис пригласила в гости пятерых одноклассниц. Сама она сидит около письменного стола на стуле с высокой спинкой и витыми ножками: на ней юбка на лямках и красная блузка с прибранными рукавами и широкими манжетами; на правом запястье — серебряный браслет; она смотрит на дымящуюся длинную сигарету, зажатую между большим и указательным пальцами левой руки.
Одна из ее подруг, в длинной белой льняной накидке, стоит напротив двери и внимательно изучает план парижского метро. Другие подруги, одетые в стандартные джинсы и полосатые рубашки, сидят на полу вокруг подноса с чайным сервизом, что стоит подле лампы с основанием в виде бочонка, который — как можно представить — носили сенбернары. Одна из девушек разливает чай. Вторая открывает коробку с маленькими кубиками сыра. Третья читает роман Томаса Харди, на обложке которого изображен бородатый персонаж, сидящий в лодке посреди реки и удящий рыбу, а также всадник в доспехах, который его, похоже, окликает с берега. Четвертая с безразличным выражением рассматривает гравюру, изображающую епископа, склонившегося над столом, на котором лежит игра под названием «солитер». Это деревянная доска трапециевидной — подобно прессу для теннисной ракетки — формы с двадцатью пятью расположенными ромбом лунками для попадания шариков, которые в данном случае заменены весьма крупными жемчужинами, что лежат на маленькой подушечке из черного шелка, справа от доски. На гравюре — та явно имитирует знаменитую картину Босха под названием «Фокусник», хранящуюся в муниципальном музее Сен-Жермен-ан-Лэ, — имеется забавная, хотя и не очень понятная надпись, каллиграфически выведенная готическими буквами:
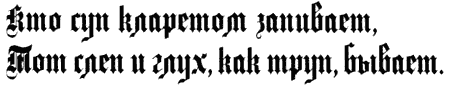
После самоубийства Фернана де Бомона его вдова Вера осталась одна с маленькой шестилетней дочкой Элизабет: та никогда не видела отца, который вдали от Парижа занимался своими кантабрийскими раскопками, и почти никогда — мать, которая в Старом и Новом Свете продолжала свою оперную карьеру, почти не отвлекаясь на кратковременный брак с археологом.
Родившаяся в начале века Вера Орлова — именно под этим именем ее до сих пор знают меломаны, — весной восемнадцатого года бежала из России и сначала обосновалась в Вене, где стала ученицей Шёнберга по «Verein für musikalische Privataufführungen». За Шёнбергом она последовала в Амстердам, а потом, когда учитель решил вернуться в Берлин, с ним рассталась и приехала в Париж, где дала серию концертов в зале Эрар. Несмотря на сарказм и негодование враждебно настроенной публики, явно не привыкшей к технике Sprechgesang, певице, которую поддерживала лишь горстка фанатичных почитателей, удалось включить в свою программу, составленную главным образом из оперных арий, ранее неизвестные парижанам lieder Шумана и Хуго Вольфа, песни Мусоргского, вокальные пьесы Венской школы. На приеме, устроенном графом Орфаником, по просьбе которого Вера приехала спеть финальную арию Анжелики из «Орландо» Арконати:
Innamorata, mio cuore tremante,
Voglio morire…
она встретила того, кому впоследствии довелось стать ее мужем. Но, принимая все более настойчивые приглашения отовсюду, соглашаясь на триумфальные гастроли, которые иногда затягивались на целый год, она почти не жила с Фернаном де Бомоном, который, со своей стороны, выбирался из кабинета лишь ради того, чтобы проверить свои рискованные гипотезы в полевых условиях.
Родившаяся в 1929 году Элизабет воспитывалась у бабушки по отцовской линии, пожилой графини де Бомон, и видела мать лишь несколько недель в году, когда той удавалось отбиваться от растущих требований импресарио и вырываться на кратковременный отдых в замок Бомон под Лединьяном. Лишь в конце войны, когда Элизабет уже исполнилось пятнадцать лет, ее мать оставила концертно-гастрольную деятельность, чтобы посвятить себя преподаванию вокала, и перевезла дочь к себе в Париж. Но девушка очень быстро отказалась жить под опекой женщины, которая — распрощавшись с блистающими ложами и пышными декорациями, а также букетами роз, осыпавшими ее в конце каждого концерта, — стала властной и сварливой. Уже через год Элизабет сбежала. Все поиски, предпринятые матерью с целью отыскать след дочери, остались безрезультатными: увидеться им так и не привелось. Лишь в сентябре 1959 года Вера Орлова узнала одновременно и о том, как жила, и о том, как умерла ее дочь. За два года до этого Элизабет вышла замуж за бельгийского каменщика Франсуа Брейделя. Они поселились в Арденнах, в Шомон-Порсьене. У них уже было две дочери, годовалая Анна и грудная Беатрис. В понедельник 14 сентября соседка услышала плач и попыталась проникнуть в их дом. Сделать это ей не удалось, и она побежала за полицейским. Вдвоем они принялись звать хозяев, но, не добившись никакого ответа, кроме все более пронзительных детских криков, призвали на помощь деревенских жителей, высадили дверь на кухню, прошли в спальню и обнаружили там обоих родителей, лежавших на кровати голыми, в луже крови, с перерезанным горлом.
Вера Бомон узнала об этом в тот же вечер. Крик, который вырвался из ее груди, слышали все жильцы дома. Извещенный консьержкой шофер Бартлбута по имени Клебер тут же предложил ей свою помощь, и, проехав всю ночь, она на следующее утро прибыла в Шомон-Порсьен и сразу же оттуда уехала, забрав с собой обеих внучек.
Глава VII
Комнаты для прислуги, 2
Морелле
Комната Морелле располагалась под самой крышей, на девятом этаже. На двери еще можно было прочесть написанный зеленой краской номер «17».
Перепробовав множество профессий, один перечень которых он, шутя, любил зачитывать в постепенно ускоряющемся темпе, — слесарь-монтажник, шансонье, младший кочегар, моряк, учитель верховой езды, эстрадный артист, дирижер, мойщик ветчины, святой, клоун, солдат на пять минут, сторож в спиритуалистской церкви и даже статист в одном из первых короткометражных фильмов Лорела и Харди, — Морелле в двадцать девять лет стал лаборантом на кафедре химии Политехнического института и, вне всякого сомнения, им бы и остался до самой пенсии, если бы однажды ему — как, впрочем, и многим другим — не повстречался Бартлбут.
Вернувшись из своего путешествия в декабре тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, Бартлбут принялся искать метод, который позволил бы ему после складывания пазлов получать обратно свои изначальные морские пейзажи: для этого следовало сначала склеить деревянные детали между собой, каким-то образом убрать все следы распила и вернуть бумаге ее первичную фактуру. Затем, разделяя лезвием два склеенных слоя, можно было бы получить невредимую акварель, такую, какой она была в тот день, когда — двадцать лет назад — Бартлбут ее нарисовал. Задача была непростой: хотя на тот момент и существовали синтетические клеи и шпатлевки, которыми торговцы игрушек склеивали выставляемые в витринах образцы пазлов, следы распила оставались всегда на виду.
Следуя своим привычкам, Бартлбут пожелал, чтобы человек, призванный помогать ему в этих экспериментах, жил если не в его доме, то, по крайней мере, как можно ближе. Вот так, при посредничестве своего верного Смотфа, жившего на том же этаже, что и лаборант, он встретился с Морелле. Сам Морелле не имел никаких теоретических знаний, необходимых для решения подобной задачи, но он направил Бартлбута к своему руководителю, химику немецкого происхождения по фамилии Кюссер, дальним родственником которому приходился композитор
КЮССЕР или КУССЕР (Иоганн Сигизмунд), немецкий композитор венгерского происхождения (Пошони, 1660 — Дублин, 1727). Во время пребывания во Франции (1674–1682) работал вместе с Люлли. Состоял капельмейстером при многих великокняжеских дворах Германии, был дирижером в Гамбурге, где поставил несколько опер: «Эриндо» (1693), «Порус» (1694), «Пирам и Фисба» (1694), «Сципион Африканский» (1695), «Ясон» (1697). В 1710 году стал капельмейстером кафедрального собора в Дублине и оставался им до самой смерти. Был одним из создателей гамбургской оперы, в которую внедрил «увертюру по-французски», и одним из предшественников Генделя в жанре оратории. Из наследия композитора сохранилось шесть увертюр и несколько других сочинений.
После многочисленных, но безуспешных экспериментов, проведенных со всевозможными клеями животного и растительного происхождения, а также с различными акрилами, Кюссер решил подойти к проблеме совершенно иначе. Он понимал, что следовало найти субстанцию, способную коагулировать волокна бумаги, не нарушая нанесенные на нее цветовые красители, и однажды, весьма кстати, вспомнил об одной технике, которую в молодости видел у итальянских медальеров: они засыпали внутрь чекана очень тонкий слой алебастровой пыли, и выходящие из формы детали были совершенно гладкими, что делало ненужной дальнейшую работу по зачистке и полировке. Продолжая поиски в этом направлении, Кюссер нашел некий состав, похожий на гипс, который ему показался вполне удовлетворительным. Измельченный до состояния порошка или почти неосязаемой пыли, смешанный с желатиновым коллоидом, при определенной температуре и под сильным давлением впрыскиваемый из тончайшего шприца, управляемого таким образом, чтобы в точности повторять самые сложные очертания выпиленных Винклером деталей, этот гипс связывал волокна бумаги и восстанавливал ее изначальную структуру. По мере остывания гипсовая пыль становилась совершенно прозрачной и не оказывала никакого воздействия на акварельные цвета.
Процедура была несложной и требовала лишь терпения и точности. Вся необходимая, специально изготовленная аппаратура была установлена в комнате Морелле, который, получая щедрое вознаграждение от Бартлбута, все чаще пренебрегал своими обязанностями в Политехническом институте и посвящал все свободное время проекту богатого мецената.
По правде говоря, от Морелле требовалось совсем немного. Раз в две недели Смотф приносил ему очередной пазл, едва Бартлбут завершал его сложнейшую сборку. Морелле устанавливал пазл в металлическую раму и помещал его под специальный пресс, выдающий отпечаток всех распилов. С этого отпечатка методом электролиза он изготавливал ажурную станину, эдакое сказочное металлическое кружево, которое — сообразно тщательно выверенной матрице — воспроизводило конфигурацию деталей пазла. Заранее приготовленной и до нужной температуры разогретой гипсовой суспензией Морелле наполнял микрошприц, который затем вставлял в механический зацеп таким образом, чтобы острие иглы, толщина которой не превышала нескольких микрон, устанавливалось точно напротив ажуров решетки. Остальные действия производились автоматически: впрыскиванием гипса и перемещением шприца управлял электронный прибор с таблицей координат X-Y, что обеспечивало медленное, но регулярное нанесение субстанции.
К последней фазе операции лаборант уже не имел никакого отношения: скрепленный пазл — вновь превратившийся в акварель, наклеенную на тонкую основу из тополиной древесины, — поступал к реставратору Гийомару, который лезвием отсоединял лист ватмана и убирал все следы клея на обороте: процедура деликатная, но рутинная для эксперта, который прославился тем, что расчищал фрески, покрытые многослойной штукатуркой и краской, и даже сумел разрезать вдоль бумажный лист, изрисованный Гансом Беллмером с обеих сторон.
Итак, от Морелле требовалось лишь раз в две недели готовить и контролировать определенную последовательность манипуляций, которые, включая чистку и уборку, занимали в общей сложности чуть меньше одного дня.
Эта вынужденная праздность привела к досадным последствиям. Избавленный от финансовых затруднений, но одержимый бесом экспериментаторства, Морелле решил не тратить свободное время зря и полностью отдался физическим и химическим опытам, которых ему, похоже, так недоставало все эти долгие лаборантские годы. Распространяя во всех близлежащих кафе визитные карточки, подтверждавшие его помпезную должность «Руководитель Практических Работ Пиротехнического Института», он щедро предлагал свои услуги и получал многочисленные заказы на суперактивные шампуни, сверхэффективные очистители ковровых покрытий, пятновыводители, энергетические экономайзеры, сигаретные фильтры, мартингалы 421, настойки против кашля и прочие чудодейственные средства.
В один из февральских вечеров тысяча девятьсот шестидесятого года, когда он нагревал в скороварке смесь канифоли и дитерпенический карбид кальция для изготовления зубной пасты с лимонным ароматом, произошел взрыв. Морелле раздробило левую руку и оторвало три пальца.
Этот несчастный случай лишил Морелле работы — ведь подготовка металлической рамы, осуществлявшаяся вручную, требовала маломальской дееспособности — и вынудил его жить на пенсию, мелочно урезанную Политехническим институтом, и небольшое пособие, определенное Бартлбутом. Однако изобретатель не пал духом, а его изобретательские позывы даже обострились. Несмотря на строгую критику Смотфа, Винклера и Валена, он упрямо продолжал ставить свои опыты — большей частью безуспешные, но вполне безобидные, если не считать того, что у некоей мадам Шван выпали все волосы после того, как она помыла голову особым красителем, который Морелле изготовил специально для нее. Несколько раз его манипуляции все же заканчивались взрывами — скорее зрелищными, нежели опасными — и возгораниями, которые удавалось оперативно нейтрализовать.
Подобные инциденты весьма радовали двух жильцов, а именно его соседей справа, молодую пару Плассаер, торговцев индианщиной, которые к тому времени весьма удачно превратили три каморки для прислуги в свою норку (если так можно назвать жилье, расположенное под самой крышей), и теперь, чтобы еще немного расшириться, рассчитывали на жилплощадь Морелле. После каждого взрыва они писали жалобы и ходили по всему дому с петициями, требуя выселить бывшего лаборанта. Комната принадлежала управляющему, который при переводе здания в совместное пользование выкупил на свое имя почти все помещения двух верхних этажей. Долгие годы управляющий не решался выгнать старика, вызывавшего симпатию у многих жильцов и, прежде всего, у мадам Ношер, которая принимала господина Морелле за настоящего ученого, мыслителя, обладателя тайных знаний, а из мелких катастроф, периодически сотрясавших последний этаж дома, извлекала личную выгоду, выражавшуюся не столько в получении скромных вознаграждений, что иногда имело место при подобных обстоятельствах, сколько в обосновании мелодраматических, мистических, а иногда и фантастических рассказах, коими она снабжала всю округу.
А потом, несколько месяцев назад, на одну неделю пришлось сразу два инцидента. Первый на несколько минут обесточил весь дом; в результате второго раскололось шесть керамических плиток. На этот раз Плассаерам удалось выиграть дело, и Морелле увезли.
На картине комната изображена так, как она выглядит сейчас: торговец индианщиной выкупил ее у управляющего и уже начал перепланировку. На стенах — пока еще прежняя поблекшая светло-коричневая краска, а на полу — ковер с жестким ворсом, почти повсюду протертый до основания. Сосед уже поставил два предмета мебели: низкий столик — столешница дымчатого стекла на многограннике шестиугольного сечения — и ларь в стиле Ренессанс. На столике лежат коробка сыра мюнстер с изображенным на крышке единорогом, почти пустая упаковка из-под тмина и нож.
Трое рабочих собираются выходить из комнаты. Они уже приступили к работам по объединению двух помещений. На дальней стене, около двери, прикреплен вычерченный на кальке большой план, указывающий будущее расположение радиатора, разводку труб и электрических проводов, а также ту часть перегородки, которая будет снесена.
Один из рабочих — в больших перчатках вроде тех, которыми электрики пользуются для протягивания кабеля. На другом рабочем — вышитый замшевый жилет с бахромой. Третий читает письмо.
Глава VIII
Винклер, 1
Сейчас мы находимся в помещении, которое Гаспар Винклер называл гостиной. Из трех комнат его квартиры эта расположена ближе всего к лестнице, от нас — крайняя слева.
Комната — скорее маленькая, почти квадратная, ее дверь выходит прямо на лестницу. Стены оклеены джутовой тканью, некогда голубой, а сейчас почти бесцветной за исключением тех мест, которые были закрыты от света мебелью и картинами.
Мебели в гостиной было немного. К этому помещению Винклер так и не привык. Целыми днями он работал в третьей комнате, той, что обустроил под мастерскую. Дома он никогда не ел: готовить никогда не умел, да и не любил. Начиная с тысяча девятьсот сорок третьего года даже на завтраки он спускался в кафе с табачной лавкой «У Рири», на углу улиц Жаден и де Шазель. И только когда к нему приходили малознакомые посетители, он принимал в гостиной. Там стояли круглый раздвижной стол, раздвигать который, впрочем, ему доводилось нечасто, шесть плетеных стульев и буфет с вырезанными им самим фигурными панно по мотивам ключевых сцен «Таинственного острова»: падение воздушного шара, вылетевшего из Ричмонда, невероятное спасение Сайреса Смита, последняя спичка, оставшаяся в жилете Гедеона Спилета, находка сундука, вплоть до душераздирающих исповедей Айртона и Немо, которые завершают все эти приключения и великолепно их связывают с романами «Дети капитана Гранта» и «Двадцать тысяч лье под водой». Посетители всегда обращали внимание на этот буфет и даже подолгу рассматривали его. Издалека он был похож на любой бретонский деревенский буфет в стиле Генрих II. И лишь приблизившись, чуть ли не коснувшись пальцем резьбы, можно было разглядеть все эти миниатюрные сцены и представить себе терпение, скрупулезность и даже талант, которые требовались для их создания. Вален знал Винклера с тысяча девятьсот тридцать второго года, но лишь в начале шестидесятых он заметил, что этот буфет отличается от других и заслуживает того, чтобы его разглядывали. В то время Винклер занимался изготовлением перстней, и Вален привел к нему девушку, которая к рождественским праздникам собиралась открыть отдел безделушек в своем парфюмерном магазине на улице Ложельбак. Они втроем уселись за стол, и на демонстрационных подставках, обитых черным сатином, Винклер разложил в ряд все свои изделия: в то время их было штук тридцать. Винклер извинился за плохой свет, падающий от плафона, затем открыл буфет и достал из него три рюмки и графин с коньяком 1938 года; сам он пил очень редко, но Бартлбут ежегодно отправлял ему несколько бутылок отборного вина и крепкого алкоголя, которыми Винклер щедро одаривал соседей по дому и кварталу, оставляя лишь одну-две для себя. Вален сидел вблизи буфета и, пока парфюмерша робко перебирала и рассматривала перстни, цедил коньяк, разглядывая резьбу; его удивило — причем еще до того, как он это полностью осознал, — что вместо ожидаемых оленьих морд, гирлянд, сплетенных листьев и пухлых ангелочков ему предстали маленькие персонажи, море, линия горизонта и даже целый остров, еще не названный именем Линкольна и представленный таким, каким его целиком, едва достигнув самой высокой точки, впервые сумели охватить взором изумленные, но не обескураженные путешественники, потерпевшие бедствие. Вален спросил у Винклера, не он ли так украсил свой буфет, и Винклер ответил, что да, и добавил: в молодости, — но не стал углубляться в детали.
