Фантазматическое оперативное соединение
Нижеследующий аналитический фрагмент даст нам конкретный пример одной из этих новых болезней души: фантазматического торможения. Дидье, который носил в себе образы своих картин, тем не менее, не мог выразить свои чувству слонами, то есть не мог дать живописное описание своих страстей. Так как в его Желании отсутствовала повествовательная сторона, оно сводилось на нет. Дидье мог, таким образом, восприниматься в качестве символической эмблемы современного человека — действующее лицо или потребитель общества развлечений, который утратил свое воображение.
Парадокс актера, приведенный Дидро, изображает опытного профессионала, который мог великолепно имитировать чувства других людей, однако был неспособен испытывать какие-либо чувства сам по себе. Данный философ эпохи Просвещения превозносил эту способность, которая с тех пор трансформировалась в нечто вызывающее тревогу, ибо в нашем мире, как производитель, так и потребитель образов страдают от отсутствия воображения. Их беспомощность приводит к повреждению. Что хотят они от своего аналитика? Новый психический аппарат. Но прежде Чем они откроют себя языку фантазматического повествования, развитие этого нового психического аппарата должно возродить образ внутри переноса.
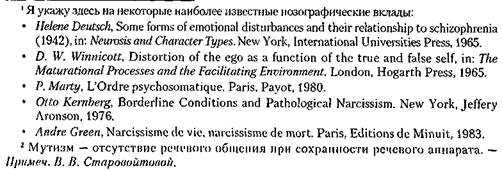
Ранее Дидье написал мне письмо, в котором говорилось, что он восхищался моими книгами по искусству и литературе. Художник-дилетант, он сказал мне, что «проблемы взаимоотношений» убедили его в необходимости начать анализ. Он считал, что я единственный человек, способный направлять его в «таком рискованном деле». Дни нос письмо характеризовало его как читателя психоаналитических и художественных текстов, а также как хорошо информированного любителя искусства.
В течение ряда лет я была свидетельницей словесного дискурса Дидье, свидетельствующего о его эрудиции и сдержанности и высказываемого монотонным образом. Временами парадокс данной ситуации казался мне смешным и даже абсурдным. Мне было затруднительно помнить о том, что Дидье был «моим пациентом», ибо я была абсолютно убеждена в том, что он говорил с единственной целью игнорирования меня. Даже когда я была в состоянии пробиваться сквозь этот «непроницаемый аппарат для подводного плавания» данного «человека-невидимки» (я использовала данные метафоры, когда размышляла о его психическом и либидном автоматизме), Дидье удавалось сразу же нейтрализовать мои слова: «Да, это так, я сам собирался сказать об этом, именно так, я уже думал
об этом...» И он продолжал оставаться в состоянии «погружения», не будучи когда-либо затронут моими интерпретациями.
С самых первых сессий меня поразила лаконичная речь Дидье, что могло рассматриваться мной как знак того, что лечение было невозможно. Я чувствовала, однако, что экономность его дискурса превосходно соответствовала человеку, который жаловался на столь огромное страдание. Он говорил о своем страдании, сообщая мне по секрету различные «рассказы» в «оперативной» и «технической» манере, характерной для людей, пораженных психосоматическими заболеваниями. Он избавлялся от этих рассказов, как если бы они были неодушевленными предметами или бесполезными пищевыми отходами. Дидье описывал себя как одинокого, неспособного любить, нейтрального, отчужденного от своих коллег и своей жены, даже индифферентного к смерти своей матери. Лишь мастурбация и писание картин могли поддерживать его интерес.
Будучи рожден вслед за сестрой, Дидье обожался матерью, которая одевала его как девочку и стригла под девочку, пока он не пошел в школу. Она властвовала в жизни маленького сына, делая его средством осуществления своего инвертированного желания, ибо превращая сына в дочь, она могла любить себя в образе маленькой девочки. Дидье говорил не «моя» мама или «наша» мама, а «La mere». Мне предстояло понять, что определенный артикль был частью защитной системы — первертной комбинаторики Дидье, — которая могла защитить его от подавляемой, возбуждающей и опустошающей близости, которую он разделял со «своей» матерью. Я использую термин первертная комбинаторика из-за его исключительно мастурбационной сексуальной деятельности, соответствующей соматическим симптомам и сублимациям (его картин). Это поддерживало его дискурс на абстрактном уровне (La mere) и сохраняло его личность в чудесной изоляции. Если «La mere» не является кем-то определенным, тогда нет никого.
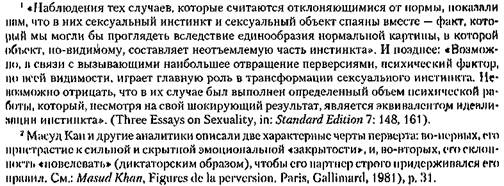 |
В ряде случаев я понимала, в сколь значительной степени Дидье, подобно многим другим пациентам, бросал вызов традиционным системам классификации. Психическая организация Дидье не соответствовала какой-либо стандартной диагностической классификации, несмотря на его обсессивную изоляцию, психосоматические тенденции и незрелость, которая была причиной его мастурбационной фиксации. Я решила сосредоточить внимание на его наиболее заметно выраженных первертных чертах, так как полагала через его дискурс вывести наружу его влечения, а затем анализировать их внутри контекста сильного и сложного переноса. Хотя как раз этого больше всего боялся мой пациент, я сочла необходимым сосредоточить внимание на обсессивном характере и нарциссической личности Дидье. Будучи пойман в тиски между вежливым, равнодушным дискурсом и своими уединенными интеллектуальными и художественными видами деятельности, Дидье пытался убедить себя (и своего аналитика) в том, что у него нет души, как если бы он был не кто иной, как робот, который время от времени заболевает.
Прежде чем жениться на «La mere», отец Дидье был женат на иностранке. Романтическая аура, таким образом, придавала некую вещественность отсутствующему отцу и служила защитным средством против назойливого присутствия «La mere». Я считала эту черту компонентом сексуальной идентичности Дидье, несмотря на двусмысленное желание его матери — желание, которое могло привести его к гомосексуальности, если не к психозу, Однако у Дидье не было ясных воспоминаний о тех божественно прекрасных временах, которые он
когда-то проводил в слиянии со своей матерью. В действительности, смерть матери оказала на него лишь небольшое воздействие. Дидье сожалел, что мать прежде была единственным человеком, которому дозволялось смотреть на его картины. Их способы коммуникации состояли из демонстрации себя, порождавшей удовольствие женского зрителя, возбуждения и повторной демонстрации себя. Они обшились без слов — от руки к глазам и наоборот, или посредством сочетания различных веществ на новой картине, которую он показывал ей.
Однако такое излюбленное развлечение закончилось вместе со смертью матери, и с тех пор Дидье находил мастурбацию менее приятной. Его лояльность к Мертвой матери приняла другую форму — форму вакуума, которого следовало избегать, или непригодной для жизни пещеры. Дидье сохранял комнату матери в том виде, в каком она ее оставила. Так как это было запретно, ее комната была тем местом, владельцем которого должен был быть Дидье. Была ли его мать недоступной из-за отцовского осуждения, которое все еще находилось вне дискурса Дидье? Совместно с этим запретом взаимоотношения, которое было просто слишком тесным, данная комната с тех пор опустела, так как в ней более не было стимулирующего присутствия матери.
Таким примерно образом я мысленно представляла себе это материнское пространство, о котором Дидье часто упоминал, будучи полон решимости позволить уединенной комнате матери беззаветно, однако тайно охранять страсть, которая, как он полагал, не существовала («пустой»?) — хотя он хотел, чтобы я сама заставила его это понять. Таково было мое положение, в качестве привлекательной и отвергаемой фигуры, одновременно призываемой и невпускаемой, в точности такое же, каким оказался и сам аналитический процесс.
Мне хотелось бы сперва рассказать о том, каким образом мой пациент часто манипулировал мной. Хотя он казался сотрудничающим, нам приходилось играть в игру по его правилам1. Сходным образом, он наметил в общих чертах собственный план ограничения анализа простой погоней за знанием: «Меня не интересуют чувства, я просто хочу знать».
Согласно Фройду, перверт соединяет влечение и объект (этот механизм мог быть основой взаимоотношения между близостью и господством). Однако перверт, главным образом, идеализирует влечения, так как с началом формирования первертной структуры сразу же становится связана «отдельно выполненная психическая выработка»2. И действительно, для перверта психическая активность
идеализации является существенно важной (мы увидим это в случае Дидье), хотя эта активность имеет двойственную природу. С одной стороны, очень маленькие дети понимают, что мать испытывает к ним влечение — на которое они реагируют, выстраивая защитную фантазию, которая находится в симбиозе с фантазией матери. С другой стороны, защитная психическая деятельность, такая как идеализация, может быть противопоставлена тем хаотическим влечениям, которые молодое Я все еще не в состоянии разработать. Отрицая этот хаос, молодое Я его погребает. Будучи порождены отрицанием, психическая активность идеализации и демонстрация знания приобретают искусные, однако статические черты, сравнимые с «ложным Я» Винникотта или с «оперативным мышлением»1 Марти2. Я поняла, что дискурс Дидье, подобно его живописной продукции, обладал этим искусным качеством: он был тщательно разработанным, хорошо информативным и в то же время предназначенным для недопущения осознания влечений, в особенности агрессивных.
Отрицание и ухудшение языка
Дидье заводил меня к особо первертной организации, которой постоянно угрожали — или которую стабилизировали — его соматические симптомы, обсессии и «ложное Я». Эта экономика, которая основывалась на отрицании материнской кастрации, сохраняла всемогущество матери и отождествившегося с ней ребенка. Сходное нарциссическое всемогущество усилило бисексуальные фантазии пациента и сделало его невосприимчивым к каким-либо взаимоотношениям, которые могли бы иметь место вследствие переживания смерти матери. Следовательно, не было абсолютно ничего утрачено из симбиоза слияния между фаллической матерью и ее сыном-дочерью. У этой четверной пары имелись все эти компоненты.
Данное аутоэротическое всемогущество, однако, пропитывало все компоненты этой закрытой системы отрицанием, и фантазматическое всемогущество было преобразовано в ухудшение. Имело место ухудшение образа матери, так как она была не объектом желания, а лишь пассивной поддержкой или фетишистской декорацией аутоэротического удовольствия ее сына, а также ухудшение сына, который, подобно своей матери, избегал трудного эдипова испытания, которое дало бы ему возможность сталкиваться лицом к лицу с кастрацией и фаллической идентичностью. Наконец, это эротическое ухудшение — у которого не было ни субъекта, ни объекта — нашло параллель в мыслительных процессах Дидье. Хотя проявление Дидье символической компетенции было правильным образом организовано в соответствии с грамматическими, логическими и социальными нормами, оно, тем не менее, представляло собой «ложное я», искусственный дискурс, который не оказывал никакого влияния на его аффекты и влечения. Не становясь актуальным расщеплением Я, отрицание вело к конфликту
между символическим функционированием пациента и секретной зоной его невыраженных словами влечений.
Дидье действительно потерпел неудачу в создании настоящей первертной структуры. Однако из-за его отрицания и безобъектной сексуализации его первертная экономика содержала преэдиповы конфликты, которые, как можно предположить, были еще более острыми, так как выглядели столь застывшими. Они были столь застывшими, что символические образования пациента могли взять на себя защитной роли против угрозы со стороны его влечений. Дидье вследствие этого проявлял соматические симптомы: тонкий аутоэротический слой уступал дорогу метафоре, симптому дерматита. Ощущал ли он вину по поводу мастурбации, или же данный симптом отражал хрупкость его нарциссической идентичности, которую уже однажды ранее ощутила его кожа? Во всяком случае, его кожное заболевание обострилось после смерти матери.
Поэтому мне представляется, что перверсия Дидье отделила влечения и их Психических представителей от языка и символического функционирования. Эта сепарация сделала тело незащищенным и подверженным соматическим симптомам. Аутоэротизм и искусственный дискурс были попытками справиться с этим и прорывами посредством создания не идентичности, а замкнутой, направленной ми себя и сковывающей тотальности, анально-садистической, независимой и самодостаточной тотальности, в которой не ощущалось никакой нехватки и которая ни в ком не нуждалась.
Для нахождения языкового доступа к влечениям и к другому (которые отрицались и поглощались подобно всему остальному) следовало расшатать эту защитную функцию. Лишь затем было возможно начать осуществлять анамнез Эдипова комплекса, сначала путем его реструктурирования из преэдипового скрытого состояния, который оставался фрагментированным и закапсулированиым, а затем посредством осуществления анализа этих феноменов.
«Оперативное» сновидение катастрофической идентичности
Даже даваемые Дидье описания своих сновидений выглядели защитными, нейтрализующими и «оперативными»1. Рассматриваемое сновидение, подобно столь многим другим, было поведано как фрагментированное повествование, наполненное ассоциациями, которые противились анализу.
Дидье высовывается из окна родительского дома. Он чувствует себя плохо, или же кто-то его толкает. Он летит вниз. Он переживает мгновение интенсивной треноги,
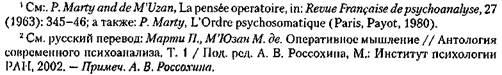
1Я использую данный термин таким образом, который не полностью скрывает его психосоматические дополнительные значения, хотя он проливает свет на сложную психологическую организацию Дидье, которая была центрирована на аффективном вложении в аннулирование речи. И действительно, данный пациент сдерживал свои аффекты и продуцировал технический, академический и холодный дискурс, который характеризовался не только обсессивной изоляцией, но также был на грани соматизации. В моей интерпретации слово «оперативный» передает симптоматологию перверсии Дидье, соматические симптомы, «ложное я» и обсессивную природу.
которое вызывает у него пронзительный крик ужаса, хотя он не уверен на этот счет. Во всяком случае, сновидение является бесшумным. Внезапно он находит себя перед зеркалом и видит отражение лица своей сестры. Это вызывает у него некоторое возбуждение и заставляет проснуться.
Дидье рассказывал о своем «пронзительном крике» и «возбуждении» с характерной для него нейтральностью. Он не привел никаких деталей дома, окна или зеркала. Данное сновидение «отображало» пустое пространство — это было застывшее сновидение. Я думаю о его тревоге при столкновении с бездной, то есть о его тревоге при столкновении с кастрацией женщин, его сестры. Возможно, также имела место полная тревоги фантазия о его рождении или вытекающей из него нехватки: не могло ли рождение среди этих людей вновь разжечь его страх небытия? Если бы его отец остался с иностранкой, или если бы его мать избавилась (а не просто отвергла) от мальчика, который приносил ей столь большое разочарование, что она переделала его в девочку, Дидье мог бы вообще никогда не родиться. Зияющее окно представляло собой безутешную муку небытия — черную дыру нарциссизма и убийства самости, которое вело меня к некоторым неразвитым областям психики Дидье. Так как его интенсивные и хаотические влечения не были ни сублимированы, ни исчерпаны, они вселили пустоту в либидо и дух пациента.
Если моя гипотеза о «нарциссической черной дыре» была справедлива, то восприятие себя Дидье как своей сестры, как женщины или как двойника своей матери, наложило неизгладимый отпечаток на эту «черную дыру». Однако Дидье не путал себя со своей сестрой — он «заморозил» этот возможный трансвестизм, так же как он ранее заморозил муку своей аннигиляции.
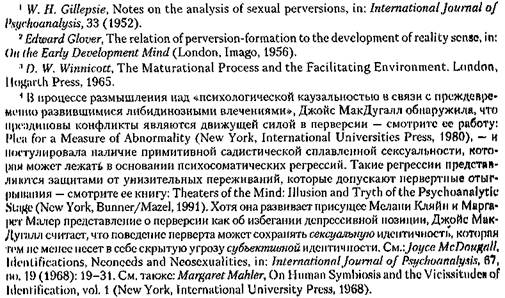 |
Он «немного думал» об этих людях. Ни его отец, ни его мать не интересовались его сестрой — таким образом, быть женщиной было не очень заманчивым предложением. Он не видел какого-либо решения; у него не было другого выбора, кроме как оставаться нарушенным. Страх быть никем иным, кроме как женщиной, указывает на то, что этот человек подвергался риску афанизиса1. При столкновении с бездной под окном и с зеркалом с отражением сестры Дидье выбрал зеркало. Это означает, что он перенес комбинацию своих конфликтных влечений и их недоступного, замороженного объекта на свое Я. Он равнодушно оставался фетишистским объектом своей матери, мальчиком-девочкой материнской мастурбации. Посредством аутоэротического, почти аутистического ухода, эта женщина, по-моему, компенсировала ту ревность, которая, по всей видимости, возникла у нее при воспоминании об иностранке, а также из ее едва скрываемой ностальгии мо собственному отцу.
Я смогла проинтерпретировать страх Дидье по поводу потери своей сексуальной идентичности, однако я также предположила, что за этим страхом может скрываться катастрофическая тревога по поводу тотального уничтожения Я. «Я так не считаю», — апатично отрицал он. Затем молчание — занавес упал — отказ. За этим не последовал какой-либо дополнительный прогресс. И действительно, Дидье признался мне, что он никогда не выбросится «в это окно» и что он «никогда не
1 Афанизис — термин Э. Джонса, который означает исчезновение сексуального желания. По Джонсу, афанизис вызывает у обоих полов гораздо больший страх, чем кастрация. — примеч. В. В. Старовойтовой.
подарит жизнь кому-либо другому», Возможно, он также надеялся, что из нашей работы не выйдет ничего путного. Я попыталась связать его непроницаемость с запертыми на висячий замок апартаментами его матери: Дидье не желал впускать меня в свою частную жизнь, потому что его мать всегда забирала все с собой, он боялся, что его мать обнаружит его страсти, его страхи, его ненависти. Он успокоил себя, заметив, что «она не была специалистом». Опасался ли он, что если он мне откроется, то я позволю ему выпасть из окна? Или же, скорее, он опасался, что я буду держать зеркало, которое не смогло отразить его мужское лицо?
Теория в контрпереносе
В конце концов, прибегание к «нестойко выраженной» теоретической активности является «третьим ухом» — отдаленным, однако подразумеваемым и необходимым, — которое содействует получению релевантной аналитической информации из феномена контрпереноса. По мере того, как я слушала Дидье и приходила к соответствующим данному случаю «конструкциям», мне вспомнились наблюдения В. X. Гиллепси о всемогуществе перверта. Согласно Гиллепси, первертная экономика может быть связана с психозом, так как перверт стоит между вытесненными защитами и шизоидным или расщепленным характером1. В подобном духе, Эдвард Гловер еще ранее считал перверсию нейтрализацией инфантильной агрессии, а также компромиссом, который сохраняет восприятие реальности2. Под влиянием работы Винникотта о взаимоотношении кормящей матери и младенца и переходном объекте3, большинство специалистов, пишущих на эту тему, подчеркивают психотический потенциал перверсии. Джойс МакДугалл установила взаимосвязь между первертной личностью и архаической преэдиповой дезорганизацией Я4. Эти проблемы, для которых перверсия обеспечивает
защитный экран и кристаллизацию «ложного Я», указывают на нарциссическую симптоматологию, которую проанализировал Андре Грин1. Кроме того, в ходе моей работы с Дидье я принимала во внимание ряд утверждений Лакана о перверсии2: первертный фетишизм не уничтожает отцовскую функцию. Посредством сохранения отрицаемой ценности отцовской функции, фетишист содействует ее произрастанию3. Размышления Лакана о языке и психическом функционировании привели меня к исследованию особого использования языка первертом, а также к его продуктам воображения (сновидениям и фантазиям).
В этом клиническом и теоретическом контексте, я заметила, что Дидье лишь тогда отходил от своей «нейтральности» — которая вряд ли была благожелательной, — когда говорил со мной о своих картинах. Высоко «специализированное» и «техническое» содержание того, о чем он рассказывал, не давало мне возможности получить представление о том, как могут выглядеть его картины. Во время таких моментов, однако, его голос становился воодушевленным, его лицо заливалось румянцем и его эмоции выходили наружу.
Казалось, что писание картин было скрытой частью айсберга, который Дидье создавал своим дискурсом. Сказать «посмотри» ничего для него не значило. Его
страсти не пропитывали его речь, Дидье «означал» иным образом. Для сохранения психологической идентичности, которую не смогло создать его нарциссическое Я, заместители его представлений вещей (его картины) заменили взаимоотношение между представлением вещи и словесным представлением. Он уменьшил воздействие своих фантазий путем перемешивания действия и смысла и создал свои собственные, понятные лишь ему удовольствия, включая мастурбацию. В обмен, лингвистические знаки оказались отрезаны от смысла, отрезаны от его действий и отрезаны от аффекта — они стали ритуалистическими, пустыми, абстрактными знаками.
