Первое ниспровержение: увядание истины
У каждого века есть свои мифы.
Их принято называть высшими истинами.
Неизвестный автор

Девятнадцатый век начался для математики хорошо. Активно работал Лагранж. В зените славы и расцвете сил находился Лаплас. Фурье (1768-1830) упорно работал над статьей 1807 г., впоследствии включенной в его ставшую классической «Теорию теплоты» (1822). Карл Фридрих Гаусс опубликовал (1801) свои «Арифметические исследования» (Disquisitiones arithmeticae), ставшие знаменательной вехой в развитии теории чисел, и был на пороге множества новых достижений, снискавших ему титул «король математиков». А французский «конкурент» Гаусса Огюстен Луи Коши (1789-1857) продемонстрировал свои незаурядные способности в обширной статье, опубликованной в 1814 г.
Несколько слов о деятельности этих замечательных ученых позволят читателю составить более полное представление о колоссальном шаге, который сделала наука в первой половине XIX в. в направлении более полного раскрытия единой схемы природы. Хотя Гаусс обогатил открытиями эпохального значения (об одном из них мы в дальнейшем расскажем) чистую математику, значительную часть своей жизни он посвятил естественнонаучным исследованиям. Гаусс даже не числился профессором математики — более пятидесяти лет он состоял профессором астрономии и директором Гёттингенской обсерватории. Интерес к астрономии пробудился у Гаусса еще в студенческие годы (1795-1798), проведенные в Гёттингене, и она, пожалуй, более всего занимала его мысли. Первый значительный успех пришел к нему в 1801 г. Первого января того года Джузеппе Пиацци (1746-1826) открыл малую планету Цереру. Хотя планету удалось наблюдать лишь в течение нескольких недель, двадцатичетырехлетний Гаусс, применив для анализа результатов наблюдений новую математическую теорию, вычислил орбиту планеты. В конце того же года Церера действительно была обнаружена примерно там, где и предсказывал Гаусс. Когда Вильгельм Ольберс в 1802 г. открыл другую малую планету — Палладу, Гаусс снова весьма точно определил ее орбиту. Весь этот первоначальный этап астрономических исследований Гаусс изложил в одном из своих главных трудов — «Теории движения небесных тел» (1809).
Позднее, производя по просьбе курфюрста Ганноверского топографическую съемку Ганновера, Гаусс заложил основы геодезии; из этих занятий он извлек ряд весьма плодотворных идей, касающихся дифференциальной геометрии.[36]Особо были отмечены проведенные Гауссом в 1830-1840 гг. теоретические и экспериментальные исследования магнетизма. Он разработал метод измерения магнитного поля Земли. Создатель теории электромагнитного поля Джеймс Клерк Максвелл в своем «Трактате по электричеству и магнетизму» признает, что исследования Гаусса по магнетизму преобразили всю науку: приборы и инструменты, методы наблюдений и обработки результатов. Работы Гаусса по земному магнетизму являются образцом естественнонаучного исследования. В знак признания заслуг Гаусса единица магнитной индукции (в системе единиц СГС) получила впоследствии название «гаусс».
Хотя идея создания телеграфа принадлежит не Гауссу и не его другу и коллеге Вильгельму Веберу (1804-1891) (многочисленные попытки предпринимались и раньше), именно они предложили в 1833 г. практическое устройство для приема сигналов. Были у Гаусса и другие изобретения. Он успешно работал в области оптики, которая после Эйлера переживала глубокий упадок. Исследования, проведенные Гауссом в 1838-1841 гг., заложили принципиально новую основу для решения оптических проблем.
Другой величайшей фигурой в математике начала XIX в., сравнимой по своей значимости с Гауссом, был Коши.[37]Его интересы отличались необычайной разносторонностью. Он написал более семисот математических работ, уступив по числу их лишь Эйлеру. Современное издание трудов Коши вышло в двадцати шести томах и охватывает все разделы математики. Коши был основоположником теории функций комплексного переменного (гл. VII и VIII). Но не меньше внимания Коши уделял физическим проблемам. В 1815 г. он получил премию Французской академии наук за работу по теории волн на воде. Ему принадлежат фундаментальные исследования по равновесию стержней и упругих (в частности, металлических) пластин, а также по теории волн в упругой среде. Своими трудами Коши заложил основы математической теории упругости. Коши развил теорию световых волн, начало которой было положено Огюстеном Жаном Френелем (1788-1827), и распространил ее на явления дисперсии и поляризации света. Коши был превосходнейшим специалистом по математической физике.
Хотя в качестве математика Фурье и уступал таким корифеям, как Гаусс и Коши, полученные им результаты заслуживают особого упоминания, поскольку именно ему удалось распространить могущество математики на еще одно явление природы — теплопроводность. Изучение теплопроводности Земли Фурье считал одной из важнейших проблем космогонии, так как надеялся таким образом показать, что первоначально земной шар находился в расплавленном состоянии. Занимаясь решением этой задачи, Фурье довел до высокой степени совершенства теорию бесконечных тригонометрических рядов (называемых ныне рядами Фурье ). Ряды Фурье стали широко применяться в различных областях прикладной математики — значение созданной Фурье теории таких рядов трудно переоценить.
Выдающиеся результаты Гаусса, Коши, Фурье и сотен других математиков, казалось бы, неоспоримо подтверждали, что наука все точнее описывает истинные законы природы. На протяжении столетия самые выдающиеся математики продолжали идти путем, проложенным их предшественниками, разрабатывая все более мощные математические методы и с успехом применяя их к новым разделам естествознания. В неудержимом порыве устремились математики на поиск математических законов природы, словно загипнотизированные убеждением, что именно они призваны раскрыть схему, избранную богом при сотворении мира.
Если бы математики XIX в. прислушались к словам своих собратьев по духу, то разразившаяся вскоре катастрофа не застала бы их врасплох. Еще на заре нового времени Фрэнсис Бэкон отмечал в своем «Новом органоне» («Новый инструмент познания», 1630 г.)[38]:
Идолы рода находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей, ибо можно утверждать, что чувства человека есть мера вещей. Наоборот, все восприятия, как чувства, так и ума, покоятся на аналогии человека, а не на аналогии мира. Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в искривленном и обезображенном виде.
([23], т. 2, с. 18.)
В том же «Новом органоне» Бэкон утверждает, что наблюдение и экспериментирование являются основой всякого знания:
Никоим образом не может быть, чтобы аксиомы, установленные рассуждением, имели силу для открытия новых дел, ибо тонкость природы во много раз превосходит тонкость рассуждений.
([23], т. 2, с. 15.)
Даже самые верующие ученые начали постепенно приходить к отрицанию роли бога как творца «единого плана» природы.
Труды Коперника и Кеплера по созданию гелиоцентрической системы мира, которую они оба рассматривали как свидетельство «математической мудрости» бога, противоречили Священному писанию, ибо они лишали человека избранного положения во Вселенной. Галилей, Роберт Бойль и Ньютон видели цель своей научной работы в доказательстве существования божественного плана и божественного вмешательства во все происходящее в мире, но в их научных исследованиях бог явно не участвовал. Более того, в одном из своих писем Галилей даже утверждал, что «от любого толкования Священного писания проку немного, ибо ни один астроном или естествоиспытатель, действуя в надлежащих рамках, не входит в подобные вопросы». Разумеется, сам Галилей, как мы уже видели, был глубоко убежден в существовании математического плана Вселенной, творцом которого был бог, но приведенный отрывок из его письма показывает, что для объяснения природных явлений Галилей считал недопустимым прибегать к мистике или привлекать сверхъестественные силы. Во времена Галилея все еще бытовало мнение, что всемогущий бог способен произвольно изменять план творения. Декарт же, при всей своей набожности, провозгласил тезис о неизменности законов природы и тем самым неявно ограничил могущество господа бога. Ньютон также считал порядок в мире неизменным, однако поддержание порядка он возлагал на бога, которого сравнивал с часовым мастером, готовым устранить любую неисправность в часовом механизме. У Ньютона были веские основания уповать на божественное провидение. Хотя он знал, что из-за возмущений, вносимых другими планетами, орбита любой планеты отличается от идеального эллипса, ему никак не удавалось доказать математически, что наблюдаемые отклонения вызваны притяжением других планет, и Ньютон считал, что без вмешательства бога, неусыпно следящего за работой мирового механизма, устойчивость Солнечной системы могла бы нарушиться.[39]
Против подобных взглядов Ньютона выступил Лейбниц в своей (предсмертной) переписке с английским священником и философом Сэмюэлем Кларком, которая велась через посредство принцессы Уэльской. В своем первом письме (ноябрь 1715 г.) по поводу ньютоновских представлений о боге, вынужденном время от времени заводить мировые «часы» и устранять неисправности в их механизме, Лейбниц писал:
Г-н Ньютон и его сторонники придерживаются довольно странного мнения о действиях бога… У него не было достаточно предусмотрительности, чтобы придать им [«часам»] беспрерывное движение… По моему представлению, в мире постоянно существует одна и та же сила, энергия, и она переходит лишь от одной части материи к другой, следуя законам природы и прекрасному предусмотренному порядку.
([24], с. 430.)
Лейбниц открыто упрекает Ньютона в том, что тот отрицает всемогущество бога. Лейбниц действительно считал Ньютона повинным в упадке религии в Англии.
И здесь Лейбниц не был так уже далек от истины. В идеологии мистика Ньютона бог и религия занимали гораздо больше места, чем у рационалиста Лейбница, но объективно труды Ньютона способствовали освобождению натурфилософии от влияния теологии. Галилей, как мы уже отмечали, также считал, что физика должна развиваться независимо от религии. С этих же позиций написаны и «Математические начала натуральной философии» Ньютона, ставшие значительным шагом на пути к чисто математическому описанию явлений природы. В математических схемах физических теорий богу отводилось все меньше места. Возмущения в траекториях планет, которые составляли загадку для Ньютона, получили почти полное теоретическое обоснование в трудах ученых последующих поколений.
На передний план выступили универсальные законы, чье действие распространялось на движение как небесных, так и земных тел; при этом обнаружилось полное соответствие между предсказаниями и результатами наблюдений, что свидетельствовало о высоком совершенстве таких законов. И после Ньютона было немало ученых, которые усматривали в совершенстве законов природы неоспоримое доказательство мудрости творца, но мало-помалу бог отошел на задний план, а в центр внимания попали математические законы Вселенной. Лейбниц предвидел некоторые следствия из ньютоновских «Начал» — картины мира, функционирующего, с помощью бога или вовсе без него, по единому плану, — и критиковал сочинение Ньютона как антихристианское. На смену стремлению раскрыть замыслы творца пришло стремление получить чисто математические результаты. Хотя многие математики после Эйлера продолжали верить во всемогущего бога, в божественный план мира и главное предназначение математики видели в расшифровке замыслов творца, по мере того как в XVIII в. развивалась математика и множились ее успехи, религиозные мотивы в научном творчестве все более отступали на задний план и присутствие бога становилось все менее ощутимым.
Воспитанные в духе католицизма, Лагранж и Лаплас были агностиками. Лаплас решительно отвергал идею о боге — создателе математического плана Вселенной. О Лапласе рассказывали такую историю. Когда он преподнес в подарок Наполеону экземпляр своей «Небесной механики», тот заметил: «Месье Лаплас, говорят, вы написали эту толстую книгу о системе мира, не упомянув создателя ни единым словом». На что Лаплас якобы ответил: «Мне не понадобилась эта гипотеза».[40]Природа заняла место бога; как сказал Гаусс: «Ты, природа, моя богиня, твоим законам я слуга покорный». Гаусс верил в вечного, всеведущего и всемогущего бога, но мысли о боге он никак не связывал с математикой и исследованием математических законов природы.
Изменения, происшедшие во взглядах на мир, отчетливо ощущаются в следующем замечании Гамильтона по поводу принципа наименьшего действия [гл. III], которое он высказал в статье 1833 г.:
Хотя принцип наименьшего действия считается одной из величайших теорем физики, претензии на его космологическую неизбежность, обоснованные ссылками на экономию в природе, ныне в общем отвергаются. Нежелание признать эти претензии объясняется среди прочего тем, что величина, которая якобы экономится, в действительности нередко расходуется расточительно…[41]Мы не можем поэтому предположить, что экономия предусмотрена в божественной идее нашего мира, хотя можно допустить, что эта идея должна исходить из простоты какого-то высшего рода.
Оглядываясь на прошлое, нетрудно заметить, как постепенно творческая работа самих математиков оттеснила на задний план идею о мире, сотворенном богом на математической основе. Мыслители все более убеждались в том, что человеческий разум способен на многое, — и лучшим тому подтверждением были успехи математики. Почему бы в таком случае не попытаться использовать могущество человеческого разума для обоснования господствующих религиозных и этических учений? И это желательно сделать из самых что ни на есть благих намерений — дабы упрочить эти учения. К счастью или к несчастью, но рационализация основ религиозных вероучений подорвала ортодоксальность многих из них. Религиозные верования, утратив присущую им некогда ортодоксальность, приняли новые формы: рационалистический супернатурализм, деизм, агностицизм — вплоть до воинствующего атеизма. Эти течения оказали влияние на математиков XVIII в., бывших людьми широкой культуры. Происшедшие перемены выразил властитель дум того времени, рационалист и антиклерикал, Дени Дидро: «Если вы хотите, чтобы я поверил в бога, сделайте так, чтобы я мог дотронуться до него рукой». Не все математики XIX в. отрицали роль бога. Правоверный католик Коши утверждал, например, что человек «без колебаний отвергнет любую гипотезу, противоречащую открывшейся ему истине». Тем не менее вера в бога как создателя математического плана Вселенной явно шла на убыль.
Перед мыслителями встал вопрос: почему математические законы природы непременно должны выражать абсолютные истины? Дидро в своих «Мыслях об объяснении природы» (1753) одним из первых отрицал абсолютность математических законов. Математик, утверждал он, подобен игроку: и тот, и другой играет в игры, руководствуясь ими же самими созданными абстрактными правилами. Предмет математического исследования — условность, не имеющая опоры в реальности. Столь же критическую позицию занял в своей работе «Беседы о множественности миров» писатель Бернар Ле Бовье де Фонтэнель (1657-1757). Он подверг критике веру в неизменность законов движения небесных тел, заметив: «Розы тоже не припомнят, чтобы умер хоть один садовник».
Математики предпочитают верить, что именно они создают пищу, которой кормятся философы. Но в XVIII в. в авангарде тех, кто отрицал истины о физическом мире, шли философы. Мы обходим молчанием учения Томаса Гоббса (1588-1679), Джона Локка (1632-1704) и епископа Джорджа Беркли (1685-1753) не потому, что их трудно было бы опровергнуть, а лишь по той причине, что они оказали меньшее влияние на развитие мысли, чем теории более радикально мыслящего Дэвида Юма (1711-1776), который не только воспринял идеи Беркли, но и развил их дальше. В своем «Трактате о человеческой природе» (1739-1740) Юм утверждал, что мы не знаем ни разума, ни материи, и то, и другое — фикции. Мы воспринимаем только ощущения. Простые идеи, такие, как образы, воспоминания и мысли, представляют собой слабый отзвук ощущений. Любая сложная идея есть не что иное, как набор простых идей. Наш разум тождествен имеющемуся у нас набору ощущений и идей. Не следует предполагать существование каких-либо субстанций, кроме тех, которые мы воспринимаем непосредственно на опыте. Всякий опыт порождает только ощущения.
Юм равным образом сомневался и в существовании материи. Кто гарантирует, что перманентно существующий мир материальных предметов не фикция? Все, что мы о нем знаем, — это наши ощущения (впечатления). Из того, что ощущения стула неоднократно воспроизводимы, еще не следует, что стул реально существует. Пространство и время, по Юму, — это способ и порядок постижения идей, а причинность — привычная взаимосвязь идей. Ни пространство, ни время, ни причинность не есть объективная реальность. Сила и яркость наших ощущений вводят нас в заблуждение, заставляя верить в реальность окружающего мира. В действительности же существование окружающего мира с заданными свойствами не более чем умозаключение, в истинности которого мы не можем быть уверенными. Происхождение наших ощущений необъяснимо; мы не можем сказать, что является их источником: реально существующие внешние объекты, разум или бог.
Сам человек, по Юму, — это обособленный набор восприятий, т.е. впечатлений и идей. Он существует только в себе. Субъект суть набор различных восприятий. Любая попытка познать самого себя приводит только к некоторому восприятию. Все остальные люди и предполагаемый внешний мир также являются лишь восприятиями данного субъекта — и нет уверенности, что они действительно существуют.
Следовательно, нет и не может быть научных законов, относящихся к перманентному, объективно существующему физическому миру. Кроме того, поскольку в основе идеи причинности лежит не научное доказательство, а лишь привычка ума, рожденная многократным повторением обычного порядка «событий», мы не можем знать, всегда ли последовательности событий, наблюдавшиеся в прошлом, будут повторяться в будущем. Тем самым Юм отрицал неизбежность, вечность и неизменность законов природы.
Разрушив догмат о существовании внешнего мира, следующего неизменным математическим законам, Юм тем самым разрушил ценность логической дедуктивной схемы, которая представляла реальность для мыслителей последующих поколений. Но математика содержит также и теоремы о числах и геометрию, неоспоримо вытекающие из тех истин о числах и геометрических фигурах, которые положены в основу их изучения. Юм не отвергал аксиом, но их выбор, а значит и результаты, получаемые из них методом дедукции, он ставил под сомнение. Что касается аксиом, то они возникают из тех ощущений, которые мы получаем от предполагаемого физического мира. Теоремы действительно с необходимостью следуют из аксиом, но они представляют собой не более чем усложненные перепевы аксиом. Теоремы являются дедукциями, но дедукциями утверждений, неявно содержащихся в аксиомах. Теоремы не что иное, как тавтологии. Следовательно, ни аксиомы, ни теоремы не могут рассматриваться как абсолютные истины.
Итак, на фундаментальный вопрос о том, каким образом человек постигает истины, Юм отвечает, отрицая само существование истин: к истинам человек прийти не может. Теория Юма не только объявляла несостоятельным все, что было достигнуто в математике и естествознании ранее, но и поставила под сомнение ценность самого разума. Столь откровенное отрицание высшей способности человека было отвергнуто большинством мыслителей XVIII в. Как в математике, так и в других областях человеческой деятельности было слишком много накоплено, чтобы этим безболезненно поступиться, объявив бесполезным грузом весь приобретенный человечеством интеллектуальный багаж. Философия Юма встретила такое резкое неприятие у большинства мыслителей XVIII в., показалась им столь неприемлемой и противоречащей выдающимся успехам математики и естествознания, что возникла острая необходимость в ее опровержении.
Выполнить эту задачу взялся один из наиболее чтимых и глубоких философов всех времен — Иммануил Кант. Но при внимательном рассмотрении выяснилось, что итог его размышлений лишь немного более утешителен, чем философия Юма. В «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука» (1783), Кант, казалось, встал на сторону математиков и естествоиспытателей:
Мы можем с достоверностью сказать, что некоторые чистые априорные синтетические познания имеются и нам даны, а именно чистая математика и чистое естествознание, потому что оба содержат положения, частью аподиктически достоверные на основе одного только разума, частью же на основе общего согласия из опыта и тем не менее повсеместно признанные независимыми от опыта.
([18], т. 4, ч. 1, с. 89.)
«Критика чистого разума» (1781) Канта начинается еще более обнадеживающими словами. Кант утверждает, что все аксиомы и теоремы математики истинны. Но почему, спрашивает Кант, мы так охотно принимаем эти истины? Ясно, что опыт сам по себе не делает математические утверждения истинными. На интересующий нас вопрос можно было бы ответить, если бы мы знали ответ на более общий вопрос: возможна ли сама наука математика? На этот вопрос Кант ответил так: наш разум сам по себе владеет формами пространства и времени. Пространство и время представляют собой разновидности восприятия (Кант называл их интуитивными представлениями), посредством которых разум созерцает опыт. Мы воспринимаем, организуем и осознаем опыт в соответствии с этими формами созерцания. Опыт входит в них, как тесто в формочки для печенья. Разум накладывает формы созерцания на полученные им чувственные восприятия, вынуждая те подстраиваться под заложенные в нем схемы. Так как интуитивное представление о пространстве берет свое начало в разуме, некоторые свойства пространства разум воспринимает автоматически. Такие утверждения, как «прямая — кратчайший путь между двумя точками», «через три точки, не лежащие на одной прямой, можно провести плоскость, и притом только одну», или как аксиома Евклида о параллельных, Кант называет априорными искусственными истинами. Они составляют неотъемлемую часть нашего умственного багажа. Геометрия занимается изучением лишь логических следствий из таких утверждений. Уже одно то, что наш разум созерцает опыт через изначально присущие ему «пространственные структуры», означает, что опыт согласуется с априорными синтетическими истинами и теоремами. Порядок и рациональность, которые мы, как нам кажется, воспринимаем во внешнем мире, в действительности проецируются на внешний мир нашим разумом и формами нашего мышления.
Конструируя пространство на основе работы клеток головного мозга человека, Кант не видел причин для отказа от евклидова пространства. Собственную неспособность представить другие геометрии Кант счел достаточным основанием, чтобы утверждать, что другие геометрии не могут существовать. Таким образом, нельзя утверждать, что законы евклидовой геометрии изначально присущи миру или что мир создан богом на основе евклидовой геометрии: законы евклидовой геометрии представляют собой лишь механизм, с помощью которого человек организует и рационализирует свои ощущения. Что же касается бога, то, по мнению Канта, природа божественного лежит за пределами рационального знания, хоть он и считал веру в бога обязательной. Глубина философских воззрений Канта, пожалуй, была превзойдена лишь ограниченностью его геометрических представлений. Прожив всю жизнь в Кенигсберге, в Восточной Пруссии, и не выезжая из него далее чем на шестьдесят километров, Кант тем не менее считал себя способным мысленно представить геометрию Вселенной.[42]
А как обстояло дело с математическими законами естествознания? Так как весь наш опыт вкладывается в формы чистого созерцания — пространство и время, математика должна быть применима ко всякому опыту. В «Метафизических начальных основаниях естествознания» (1786) Кант признал законы Ньютона и следствия из них самоочевидными. По утверждению Канта, ему удалось доказать, что законы Ньютона выводятся на основании чистого разума и что они не более чем допущения, позволяющие понять природу. Ньютон, по словам Канта, «позволил нам составить ясное представление о структуре Вселенной, которая во все времена будет одной и той же».
В более общем плане рассуждения Канта сводились к следующему. Мир науки — это мир чувственных ощущений, упорядоченных и управляемых разумом в соответствии с такими врожденными категориями, как пространство, время, причина и следствие, субстанция. Разум содержит своего рода «ложа», на которые должны укладываться «гости» извне. Чувственные ощущения рождаются в реальном мире, но, к сожалению, этот мир непознаваем. Реальность может быть познана только в субъективных категориях, создаваемых воспринимающим ее разумом. Следовательно, к организации опыта нет иного пути, кроме евклидовой геометрии и ньютоновской механики. По мере возникновения новых наук опыт расширяется, но разум формулирует новые принципы, не обобщая новые опытные данные, а используя для их интерпретации ранее бездействующие «ложа». Способность разума созерцать раскрывается только в том случае, если ее питает опыт. Этим объясняется относительно позднее познание некоторых истин, например законов механики, по сравнению с другими истинами, известными на протяжении многих столетий.
Философия Канта, которую мы здесь едва затронули, воздавала хвалу человеческому разуму, но отводила ему роль инструмента познания не природы, а тайников человеческого ума. Опыт получил должное признание как необходимый элемент познания, так как ощущения, поступающие из внешнего мира, Кант считал сырым материалом, который упорядочивается и организуется разумом. Математика обрела свое место, став открывателем необходимых законов разума.
Представление о математике как о своде априорных истин было созвучно умонастроениям математиков. Но большинство из них не обратило внимания на то, каким образом Кант пришел к своим заключениям. По теории Канта, все утверждения математики не являются неотъемлемыми признаками физического мира, а создаются человеческим разумом. Такой вывод должен был бы насторожить математиков. Откуда известно, что разум всех людей устроен так, что организует ощущения совершенно одинаково и что организация пространственных ощущений непременно должна быть евклидовой? Какие мы имеем основания это утверждать? В отличие от Канта математики и физики продолжали верить во внешний мир, подчиняющийся законам, не зависящимот человеческого разума. Мир устроен рационально, считали они, и человек лишь раскрывает план, лежащий в основе мироздания, а далее, пользуясь этим планом, пытается предсказывать то, что происходит во внешнем мире.
Философия Канта и его авторитет раскрепостили и одновременно ограничили научно-философскую мысль. Подчеркивая силу разума как организующего начала в упорядочении чувственного опыта о мире, который нам не дано узнать доподлинно, Кант проложил путь к новым представлениям, в корне противоположным тем, которые в его время считались твердо установленными. Но упорно подчеркивая, что наш разум с необходимостью организует пространственные ощущения в соответствии с законами евклидовой геометрии, Кант тем самым тормозил формирование иных взглядов.[43]Если бы Кант с большим вниманием следил за тем, как развивались события в современной ему математике, то, возможно, он не стал бы настаивать на том, что упорядочивание пространственных ощущений по образу и подобию евклидовой геометрии является единственным, которое может допустить наш разум.
Безразличие к богу и даже лишение его роли творца законов мироздания, а также кантианские взгляды на эти законы как якобы присущие самой природе человеческого разума «вызвали реакцию» со стороны творца всего сущего. Бог решил наказать кантианцев, и особенно этих самодовольных, погрязших в гордыне и чрезмерно самоуверенных математиков, и «подбросил» им неевклидову геометрию, возникновение которой нанесло сокрушительный удар по достижениям человеческого разума, всемогущего и, казалось бы, не нуждающегося ни в чьей помощи.
Хотя к началу XIX в. роль бога становилась все менее ощутимой и некоторые радикально настроенные философы, например Юм, отрицали все истины, математики того времени по-прежнему продолжали верить в истинность собственно математики и математических законов природы. Евклидова геометрия была наиболее почитаемым разделом математики не только потому, что именно с нее началось дедуктивное построение математических дисциплин, но и по той причине, что ее теоремы, как было установлено на протяжении более двух тысячелетий, полностью соответствовали результатам физических исследований. И именно евклидову геометрию «бог» избрал объектом нападения.
Одна из аксиом евклидовой геометрии издавна беспокоила математиков, однако совсем не потому, что они сомневались в ее истинности. Сомнения вызывала у них лишь формулировка аксиомы. Мы имеем в виду аксиому о параллельных, или, как ее часто называют, пятый постулат Евклида. Сам Евклид сформулировал пятый постулат следующим образом:
Если прямая, падающая на две прямые [рис. 4.1], образует внутренние и по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то продолженные эти две прямые неограниченно встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых.
([25], книги I-VI, с. 15.)
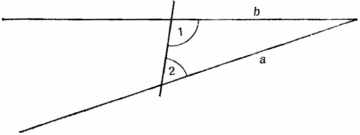
Рис. 4.1. Пятый постулат Евклида.
Иначе говоря, если углы 1 и 2 в сумме меньше 180°, то прямые а и b, продолженные достаточно далеко, пересекутся.
У Евклида были веские основания сформулировать аксиому о параллельных именно так, а не иначе. Он мог бы утверждать, например, что если сумма углов 1 и 2 равна 180°, то прямые а и b параллельны. Но Евклид явно боялся предположить, что могут существовать бесконечные прямые, которые никогда не пересекаются: любое утверждение о бесконечных прямых не подкреплялось опытом, в то время как аксиомы по определению должны были быть самоочевидными истинами о физическом мире. Но опираясь на свою аксиому о параллельных и другие аксиомы, Евклид доказал существование параллельных.
Математики считали, что аксиома о параллельных в том виде, как ее сформулировал Евклид, слишком сложна. Ей недоставало простоты других аксиом. Должно быть, и сам Евклид был недоволен своим вариантом аксиомы о параллельных, ибо обратился к ней, лишь доказав все теоремы, какие только смог вывести без ее использования.
Со временем стала жизненно важной сходная проблема, над которой поначалу задумывались лишь немногие. Она сводилась к вопросу о том, существуют ли в физическом пространстве бесконечные прямые. Евклид достаточно осторожно постулировал лишь, что конечный отрезок прямой можно продолжить сколь угодно далеко, — но ведь даже и продолженный отрезок все равно оставался конечным. Тем не менее из рассуждений Евклида следовало, что бесконечные прямые существуют: если бы прямые были конечными, то их нельзя было бы продолжать сколь угодно далеко.
Первые попытки решить проблему, связанную с аксиомой Евклида о параллельных, были предприняты еще математиками Древней Греции. Эти попытки имели двоякую природу. Одни из них сводились к замене аксиомы о параллельных какой-нибудь более очевидной аксиомой. Другие были направлены на то, чтобы вывести аксиому о параллельных из девяти остальных аксиом Евклида: если бы удалось доказать, что пятый постулат Евклида в действительности представляет собой теорему, то все трудности отпали бы сами собой. На протяжении более двух тысячелетий многие десятки крупнейших математиков, не говоря уже о математиках меньшего ранга, безуспешно пытались решить проблему параллельных, предпринимая бессчетные попытки как первого, так и второго рода. История этой проблемы уходит корнями в глубокую древность и изобилует деталями, понятными лишь профессионалу. Мы опустим здесь ее потому, что ей посвящена обширная литература[44], и, кроме того, этот вопрос не имеет прямого отношения к интересующей нас теме.
Из многих аксиом, предлагавшихся в качестве замены пятого постулата, упомянем лишь об одной. Ее и поныне приводят в некоторых учебниках геометрии. Этот вариант аксиомы о параллельных принадлежит Джону Плейферу (1748-1819), предложившему ее в 1795 г. (в английском «школьном» варианте «Начал» Евклида). Аксиома Плейфера гласит: существует одна и только одна прямая, проходящая через данную точку P, лежащую вне прямой l (рис. 4.2), в плоскости, задаваемой точкой P и прямой l , которая не пересекается с прямой l .
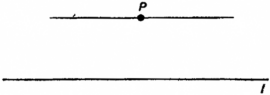
Рис. 4.2. Вариант аксиомы о параллельных, предложенный Джоном Плейфером.
Все аксиомы, предлагавшиеся вместо пятого постулата, на первый взгляд казались проще аксиомы Евклида, но при более внимательном рассмотрении оказывались не более удовлетворительными. Многие из них, в том числе и аксиома Плейфера, содержали утверждения, касающиеся не ограниченной части плоскости или пространства, а всего (бесконечного!) пространства. С другой стороны, аксиомы, предлагавшиеся взамен пятого постулата, которые не содержали прямого упоминания о «бесконечности» — например, аксиома о том, что существует два подобных, но не равных треугольника, — были слишком сложными и, во всяком случае, не были более предпочтительными, чем аксиома о параллельных, приведенная в «Началах» Евклида.
Вместе с тем были предприняты попытки решить проблему параллельных, доказав пятый постулат Евклида, исходя из остальных девяти аксиом. Наиболее значительные результаты здесь получил Джироламо Саккери (1667-1733), священник, член ордена иезуитов и профессор университета в Павии. Идея Саккери состояла в том, чтобы, заменив аксиому Евклида о параллельных ее отрицанием, попытаться вывести теорему, которая бы противоречила одной из доказанных Евклидом теорем. Полученное противоречие означало бы, что аксиома, отрицающая аксиому Евклида о параллельных — единственную аксиому, вызывавшую сомнения, — ложна, а следовательно, аксиома о параллельных Евклида истинна и является следствием девяти остальных аксиом.
Приняв за исходную аксиому Плейфера, эквивалентную аксиоме Евклида о параллельных, Саккери сначала предположил[45], что через точку P, лежащую вне прямой l (рис. 4.3), не проходит ни одна прямая, параллельная прямой l . Из этой аксиомы и девяти остальных аксиом, принятых Евклидом, Саккери вывел противоречие. Затем Саккери испробовал вторую и единственно возможную альтернативу, предположив, что через точку P проходят по крайней мере две прямые p и q, не пересекающиеся с прямой l , сколько бы их ни продолжали.
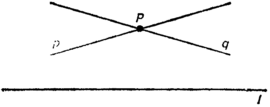
Рис. 4.3. Аксиома, принятая основоположниками неевклидовой геометрии (Саккери и др.).
