Внутренние и внешние элементы языка
Наше определение языка предполагает устранение из понятия «язык» всего того, что чуждо его организму, его системе, — одним словом, всего того, что известно под названием «внешней лингвистики», хотя эта лингвистика и занимается очень важными предметами и хотя именно ее главным образом имеют в виду, когда приступают к изучению речевой деятельности.
Сюда, прежде всего, относится все то, в чем лингвистика соприкасается с этнологией, все связи, которые могут существовать между историей языка и историей расы или цивилизации. Обе эти истории сложно переплетены и взаимосвязаны, это несколько напоминает те соответствия, которые были констатированы нами внутри собственно языка. Обычаи нации отражаются на ее языке, а с другой стороны, в значительной мере именно язык формирует нацию.
Далее, следует упомянуть об отношениях, существующих между языком и политической историей. Великие исторические события — вроде римских завоеваний — имели неисчислимые последствия для многих сторон языка. Колонизация, представляющая собой одну из форм завоевания, переносит язык в иную среду, что влечет за собой изменения в нем. В подтверждение этого можно было бы привести множество фактов: так, Норвегия, политически объединившись с Данией (1380-1814 гг.), приняла датский язык. <...> Внутренняя политика государства играет не менее важную роль в жизни языков: некоторые государства, например Швейцария, допускают сосуществование нескольких языков; другие, как, например, Франция, стремятся к языковому единству. Высокий уровень культуры благоприятствует развитию некоторых специальных языков (юридический язык, научная терминология и т.д.).
Это приводит нас к третьему пункту: к отношению между языком и такими установлениями, как церковь, школа и т.п., которые в свою очередь тесно связаны с литературным развитием языка, — явление тем более общее, что оно само неотделимо от политической истории. Литературный язык во всех направлениях переступает границы, казалось бы, поставленные ему литературой: достаточно вспомнить о влиянии на язык салонов, двора, академий. С другой стороны, вполне обычна острая коллизия между литературным языком и местными диалектами. Лингвист должен также рассматривать взаимоотношение книжного языка и обиходного языка, ибо развитие всякого литературного языка, продукта культуры, приводит к размежеванию его сферы со сферой естественной, то есть со сферой разговорного языка.
Наконец, к внешней лингвистике относится и все то, что имеет касательство к географическому распространению языков и к их дроблению на диалекты. Именно в этом пункте особенно парадоксальным кажется различие между внешней лингвистикой и лингвистикой внутренней, поскольку географический фактор тесно связан с существованием языка; и все же в действительности географический фактор не затрагивает внутреннего организма самого языка.
Нередко утверждается, что нет абсолютно никакой возможности отделить все эти вопросы от изучения языка в собственном смысле. Такая точка зрения возобладала в особенности после того, как от лингвистов с такой настойчивостью стали требовать знания реалий. В самом деле, разве грамматический «организм» языка не зависит сплошь и рядом от внешних факторов языкового изменения, подобно тому, как, например, изменения в организме растения происходят под воздействием внешних факторов — почвы, климата и т.д.? Кажется совершенно очевидным, что едва ли возможно разъяснить технические термины и заимствования, которыми изобилует язык, не ставя вопроса об их происхождении. Разве можно отличить естественное, органическое развитие некоторого языка от его искусственных форм, таких, как литературный язык, то есть форм, обусловленных факторами внешними и, следовательно, неорганическими? И разве мы не видим постоянно, как наряду с местными диалектами развивается койнэ?
Мы считаем весьма плодотворным изучение «внешнелингвистических», то есть внеязыковых, явлений; однако было бы ошибкой утверждать, будто без них нельзя познать внутренний организм языка. Возьмем для примера заимствование иностранных слов. Прежде всего следует сказать, что оно не является постоянным элементом в жизни языка. В некоторых изолированных долинах есть говоры, которые никогда не приняли извне ни одного искусственного термина. Но разве можно утверждать, что эти говоры находятся за пределами нормальных условий речевой деятельности? <...> Главное, однако, здесь состоит в том, что заимствованное слово уже нельзя рассматривать как таковое, как только оно становится объектом изучения внутри системы данного языка, где оно существует лишь в меру своего соотношения и противопоставления с другими ассоциируемыми с ним словами, подобно всем другим, исконным словам этого языка. Вообще говоря, нет никакой необходимости знать условия, в которых развивался тот или иной язык. В отношении некоторых языков, например языка текстов Авесты или старославянского, даже неизвестно в точности, какие народы на них говорили; но незнание этого нисколько не мешает нам изучать их сами по себе и исследовать их превращения. Во всяком случае, разделение обеих точек зрения неизбежно, и чем строже оно соблюдается, тем лучше.
Наилучшее этому доказательство в том, что каждая из них создает свой особый метод. Внешняя лингвистика может нагромождать одну подробность на другую, не чувствуя себя стесненной тисками системы. Например, каждый автор будет группировать по своему усмотрению факты, относящиеся к распространению языка за пределами его территории; при выяснении факторов, создавших наряду с диалектами литературный язык, всегда можно применить простое перечисление; если же факты располагаются автором в более или менее систематическом порядке, то делается это исключительно в интересах изложения.
В отношении внутренней лингвистики дело обстоит совершенно иначе; здесь исключено всякое произвольное расположение. Язык есть система, которая подчиняется лишь своему собственному порядку. Уяснению этого может помочь сравнение с игрой в шахматы, где довольно легко отличить, что является внешним, а что внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры. Если я фигуры из дерева заменю фигурами из слоновой кости, то такая замена будет безразлична для системы; но, если я уменьшу или увеличу количество фигур, такая перемена глубоко затронет «грамматику» игры. Такого рода различение требует, правда, известной степени внимательности, поэтому в каждом случае нужно ставить вопрос о природе явления и при решении его руководствоваться следующим положением: внутренним является все то, что в какой-либо степени видоизменяет систему. <...>
Часть первая
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
Глава 1
Природа языкового знака
§ 1. Знак, означаемое, означающее
Многие полагают, что язык есть по существу номенклатура, то есть перечень названий, соответствующих каждое одной определенной вещи. Например:
Вещи Названия

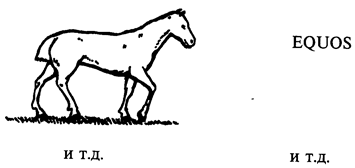
Такое представление может быть подвергнуто критике во многих отношениях. Оно предполагает наличие уже готовьк понятий, предшествующих словам; оно ничего не говорит о том, какова природа названия — звуковая или психическая, ибо слово arbor может рассматриваться и под тем и под другим углом зрения; наконец, оно позволяет думать, что связь, соединяющая название с вещью, есть нечто совершенно простое, а это весьма далеко от истины. Тем не менее такая упрощенная точка зрения может приблизить нас к истине, ибо она свидетельствует о том, что единица языка есть нечто двойственное, образованное из соединения двух компонентов.
Рассматривая акт речи, мы уже выяснили, что обе стороны языкового знака психичны и связываются в нашем мозгу ассоциативной связью. Мы особенно подчеркиваем этот момент.
Языковой знак связывает не вещь и ее название, а понятие и акустический образ. Этот последний является не материальным звучанием, вещью чисто физической, а психическим отпечатком звучания, представлением, получаемым нами о нем посредством наших органов чувств; акустический образ имеет чувственную природу, и если нам случается называть его «материальным», то только по этой причине, а также для того, чтобы противопоставить его второму члену ассоциативной пары — понятию, в общем более абстрактному.
Психический характер наших акустических образов хорошо обнаруживается при наблюдении над нашей собственной речевой практикой. Не двигая ни губами, ни языком, мы можем говорить сами с собой или мысленно повторять стихотворный отрывок. <...>
Языковой знак есть, таким образом, двусторонняя психическая сущность, которую можно изобразить следующим образом:

Оба эти элемента теснейшим образом связаны между собой и предполагают друг друга. Ищем ли мы смысл латинского arbor или, наоборот, слово, которым римлянин обозначал понятие «дерево», ясно, что только сопоставления типа кажутся нам соответствующими действительности, и мы отбрасываем всякое иное сближение, которое может представиться воображению.
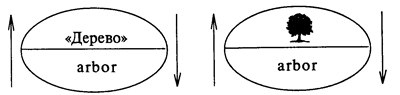
Это определение ставит важный терминологический вопрос. Мы называем знаком соединение понятия и акустического образа, но в общепринятом употреблении этот термин обычно обозначает только акустический образ, например слово arbor и т.д. Забывают, что если arbor называется знаком, то лишь постольку, поскольку в него включено понятие «дерево», так что чувственная сторона знака предполагает знак как целое.
Двусмысленность исчезнет, если называть все три наличных понятия именами, предполагающими друг друга, но вместе с тем взаимно противопоставленными. Мы предлагаем сохранить слово знак для обозначения целого и заменить термины понятие и акустический образ соответственно терминами означаемое и означающее; последние два термина имеют то преимущество, что отмечают противопоставление, существующее как между ними самими, так и между целым и частями этого целого. Что же касается термина «знак», то мы довольствуемся им, не зная, чем его заменить, так как обиходный язык не предлагает никакого иного подходящего термина.
Языковой знак, как мы его определили, обладает двумя свойствами первостепенной важности. Указывая на них, мы тем самым формулируем основные принципы изучаемой нами области знания.
§ 2. Первый принцип: произвольность знака
Связь, соединяющая означающее с означаемым, произвольна; поскольку под знаком мы понимаем целое, возникающее в результате ассоциации некоторого означающего с некоторым означаемым, то эту же мысль мы можем выразить проще: языковой знак произволен.
Так, понятие «сестра» не связано никаким внутренним отношением с последовательностью звуков s-œ:-r, служащей во французском языке ее означающим; оно могло бы быть выражено любым другим сочетанием звуков; это может быть доказано различиями между языками и самим фактом существования различных языков: означаемое «бык» выражается означающим b-œ-f (франц. bœuf) по одну сторону языковой границы и означающим o-k-s (нем. Ochs) по другую сторону ее.
Принцип произвольности знака никем не оспаривается. <...>
Слово произвольный также требует пояснения. Оно не должно пониматься в том смысле, что означающее может свободно выби
раться говорящим (как мы увидим ниже, человек не властен внести даже малейшее изменение в знак, уже принятый определенным языковым коллективом); мы хотим лишь сказать, что означающее немотивировано, то есть произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи.
Отметим в заключение два возражения, которые могут быть выдвинуты против этого первого принципа.
1. В доказательство того, что выбор означающего не всегда произволен, можно сослаться на звукоподражания. Но ведь звукоподражания не являются органическими элементами в системе языка. Число их к тому же гораздо ограниченней, чем обычно полагают. Такие французские слова, как fouet «хлыст», glas «колокольный звон», могут поразить ухо суггестивностью своего звучания, но достаточно обратиться к их латинским этимонам (fouet от fagis «бук», glas от classicum «звук трубы»), чтобы убедиться в том, что они первоначально не имели такого характера: качество их теперешнего звучания, или, вернее, приписываемое им теперь качество, есть случайный результат фонетической эволюции.
Что касается подлинных звукоподражаний типа буль-буль, тик-так, то они не только малочисленны, но и до некоторой степени произвольны, поскольку они лишь приблизительные и наполовину условные имитации определенных звуков (ср. франц. оиаоиа, но нем. wauwau «гав! гав!»). Кроме того, войдя в язык, они в большей или меньшей степени подпадают под действие фонетической, морфологической и всякой иной эволюции, которой подвергаются и все остальные слова (ср. франц. pigeon «голубь», происходящее от народнолатинского pīpiō, восходящего в свою очередь к звукоподражанию), — очевидное доказательство того, что звукоподражания утратили нечто из своего первоначального характера и приобрели свойство языкового знака вообще, который, как уже указывалось, немотивирован.
2. Что касается междометии, весьма близких к звукоподражаниям, то о них можно сказать то же самое, что говорилось выше о звукоподражаниях. Они также ничуть не опровергают нашего тезиса о произвольности языкового знака. Весьма соблазнительно рассматривать междометия как непосредственное выражение реальности, так сказать, продиктованное самой природой. Однако в отношении большинства этих слов можно доказать отсутствие необходимой связи между означаемым и означающим. Достаточно сравнить соответствующие примеры из разных языков, чтобы убедиться, насколько в них различны эти выражения (например, франц. aїe! соответствует нем. au! «ой!»). Известно к тому же, что многие междометия восходят к знаменательным словам (ср. франц. diable! «черт возьми!» при diable «черт», mordieu «черт возьми!» из mort Dieu букв. «смерть бога» и т.д.).
Итак, и звукоподражания и междометия занимают в языке второстепенное место, а их символическое происхождение отчасти спорно.
§ 3. Второй принцип: линейный характер означающего
Означающее, являясь по своей природе воспринимаемым на слух, развертывается только во времени и характеризуется заимствованными у времени признаками: а) оно обладает протяженностью и б) эта протяженность имеет одно измерение— это линия.
Об этом совершенно очевидном принципе сплошь и рядом не упоминают вовсе, по-видимому, именно потому, что считают его чересчур простым, между тем это весьма существенный принцип и последствия его неисчислимы. Он столь же важен, как и первый принцип. От него зависит весь механизм языка. В противоположность означающим, воспринимаемым зрительно (морские сигналы и т.п.), которые могут комбинироваться одновременно в нескольких измерениях, означающие, воспринимаемые на слух, располагают лишь линией времени; их элементы следуют один за другим, образуя цепь. Это свойство обнаруживается воочию, как только мы переходим к изображению их на письме, заменяя последовательность их во времени пространственным рядом графических знаков.
В некоторых случаях это не столь очевидно. Если, например, я делаю ударение на некотором слоге, то может показаться, что я кумулирую в одной точке различные значимые элементы. Но это иллюзия; слог и его ударение составляют лишь один акт фонации: внутри этого акта нет двойственности, но есть только различные противопоставления его со смежными элементами.
Глава 2
