Складывание советской рок-музыки
РУССКАЯ
РОК-ПОЭЗИЯ
ТЕКСТ
И
КОНТЕКСТ
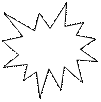 |
ТВЕРЬ 1998
Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации
Тверской государственный университет
РУССКАЯ РОК-ПОЭЗИЯ:
ТЕКСТ И КОНТЕКСТ
Сборник научных трудов
Тверь 1998
Сборник подготовлен на кафедре теории литературы Тверского государственного университета и посвящен проблемам поэтики русской рок-поэзии 1970 – 1990-х гг.
Авторы сборника – ученые из Москвы, Кургана, Орска, Калининграда и Твери.
Редакционная коллегия: Ю.В.Доманский, кандидат филологических наук Т.Г.Ивлева, Е.А.Козицкая, Е.И.Суворова.
СОДЕРЖАНИЕ
От редколлегии.…………………………………………..3
Кормильцев И., Сурова О. Рок-поэзия в русской культуре: возникновение, бытование, эволюция…………..5
Нежданова Н.К. Русская рок-поэзия в процессе
самоопределения поколения 70-80-х годов………….33
Козицкая Е.А. «Чужое» слово в поэтике русского
рока….…………………………………………..…..……49
Логачева Т.Е. Рок-поэзия А.Башлачева и Ю.Шевчука
- новая глава Петербургского текста русской
литературы……………………………………………….56
Доманский Ю.В. «Провинциальный текст»
ленинградской рок-поэзии….………………………….70
Ивлева Т.Г. Пушкин и Достоевский в творческом
сознании Бориса Гребенщикова………….……………87
Свиридов С.В. Мистическая песнь человека:
Эсхатология Александра Башлачева……………….…94
Ступников Д.О. Символ поезда у Б.Пастернака
и рок-поэтов…………………………………………….107
Никитина О.Э. Образы птиц в рок-поэзии
Б.Гребенщикова: Комментированный указатель.…114
Улуснова О.В. Материалы к библиографии по
жизни и творчеству Александра Башлачева.………125
Русская рок-поэзия: основные издания. Материалы
к библиографии (составитель Ю.В.Доманский)….130
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
Сборник подготовлен на кафедре теории литературы Тверского государственного университета. Все статьи объединены общим объектом исследования – русская рок-поэзия.
Уже ни у кого не вызывает сомнений, что “слово рока” (В.Рекшан) стало в 1970-1980-е гг. заметным явлением не только молодежной субкультуры, как было принято считать прежде, но и русской культуры в целом. Очевидно, что следующим закономерным этапом восприятия рока должно стать его научное осмысление, начало которому было положено в работах Т.Е.Логачевой, Н.К.Неждановой, О.Ю.Суровой, С.А.Достая, В.А.Карпова, А.И.Николаева* и других исследователей.
Безусловно, рок-композиция представляет собой синтез трех взаимодействующих начал: музыки, текста и шоу. Однако для нас принципиально важно, что собственно текст рок-композиции по аналогии с текстом фольклорным или драматическим может являться объектом самостоятельного изучения. Кроме того, очень многие рок-стихи к настоящему времени изданы в печатном виде, что не только предполагает возможность их восприятия в отрыве от музыки и исполнения, но и несомненно свидетельствует о самостоятельном функционировании рок-стихов как фактов литературы.
Конечная цель исследования – реконструкция особого типа мироощущения той части поколения, выразителем которой стал рок. Задача такого рода рассчитана, конечно же, на длительную перспективу. Вместе с тем уже сейчас представляется возможным осмыслить некоторые художественные принципы воплощения этого мироощущения. Поэтому в рамках сборника были систематизированы различные литературоведческие подходы к рок-тексту, учитывающие как соотнесение его с традициями русской литературы, так и “внутреннюю логику” его существования, законы, по которым строится рок-поэзия. В результате практически все авторы статей так или иначе приходят к общей мысли: русский рок, декларативно отвергая традицию, тем не менее существует в русле национальной культуры и являет собой, по сути, новый этап в развитии русской словесности.
Мы надеемся, что издание сборников по рок-поэзии станет традиционным, поэтому будем искренне признательны всем, кто выскажет свои пожелания, мнения и замечания, касающиеся как сборника в целом, так и отдельных его материалов. Будем рады рассмотреть статьи и материалы, которые могут войти в следущие выпуски.
Наш адрес: 170002, Россия, Тверь, проспект Чайковского, д.70, филологический факультет ТвГУ, кафедра теории литературы.
За помощь в создании и издании сборника сердечно благодарим профессоров Игоря Владимировича Фоменко, Юрия Борисовича Орлицкого, Александра Федоровича Белоусова, а также Ларису Олеговну Лелянову, Лидию Васильевну Тарасову, Наталью Анатольевну Веселову, Юлию Владимировну Царькову, Ольгу Анатольевну Грибкову и Александра Геннадьевича Степанова. Особая благодарность сотрудникам Лаборатории писательской лексикографии кафедры русского языка филологического факультета ТвГУ за техническую поддержку.
Т.Ивлева
Е.Козицкая
Ю.Доманский
И.КОРМИЛЬЦЕВ
О.СУРОВА
г.Москва
РОК-ПОЭЗИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ:
ВОЗНИКНОВЕНИЕ, БЫТОВАНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ
Эта работа появилась как итог спецкурса “Русскоязычная рок-поэзия как поэзия напевного строя”, который в течение двух лет читается на филологическом факультете МГУ и посвящен феномену русскоязычной рок-поэзии как особого жанра. Задача статьи - попытаться определить особенности возникновения и бытования этого жанра в отечественной культуре и предложить некую схему его эволюции. Авторы отдают себе отчет в условности и неполноте, которой грешит всякая научная схема, неизбежно оставляющая за кадром множество интереснейших феноменов (так называемых “исключений из правила”), которые не укладываются в предложенную модель. Тем не менее мы старались, чтобы отбор тех фактов, на основе которых возникла наша гипотеза, не грешил произвольностью и не был основан только на личных вкусах и склонностях авторов. Потому в качестве опорного материала мы выбирали творчество крупнейших рок-поэтов, традиционно причисляемых к “мейнстриму”, и совсем немного внимания было уделено тем, кто располагается на маргиналии рок-поэзии как жанра, хотя их творчество представляет собой не меньший интерес и заслуживает особого разговора.
Мы постарались проследить путь, пройденный отечественной рок-поэзией за три десятилетия - с середины 60-х до середины 90-х гг., сосредоточив основное внимание на 70-х и 80-х гг. - именно в это время рок-поэзия как вербальный компонент рока оформляется в самостоятельный феномен. От этого периода нас отделяет известное расстояние, что предоставляет возможность более объективно исследовать тексты, созданные в то время. Современности же, в силу недостаточной временной дистанции, уделено гораздо меньше внимания. Говоря о 1993 - 1998 гг., авторы ограничились лишь некоторыми общими соображениями о смысле и особенностях современного этапа существования рок-поэзии и о тех трансформациях, которые этот жанр переживает в 90-х гг.
Виктор Цой
Первое, что бросается в глаза в текстах Цоя - это “срезание” верхнего этажа субкультуры, отсутствие или обеднение мифологического пласта и выраженный акцент на нижнем этаже - бытие “тусовки”. Вместо мифа, истоки которого забыты, утрачены, остается только практика субкультуры - портвейн, блуждание по улице, походы в гости к друзьям, сидение на кухне до утра (“Пачка сигарет”, “Просто хочешь ты знать”, “Последний герой”).
В поэзии Цоя измененяется образ героя - это уже не “инженер на сотню рублей”, не студент и не “лишний человек” - интеллектуал-расстрига, люмпен-интеллигент, как у Гребенщикова или Майка Науменко. У Цоя это не то молодой рабочий, не то студент техникума или пэтэушник. Соответственная трансформация происходит и с образом возлюбленной - меняются и ее возраст, и социальное положение (“Восьмиклассница”). Падение “коэфиициента интеллекта” крайне заметно - мы наблюдаем примитивизацию и даже “идиотизацию” образа героя. Появление злобности, агрессивности, глубоко несвойственные субкультурной установке, сигнализирует складывание нового канона, близкого к контркультурной модели (“Бездельник”, “Мои друзья”, “Мама анархия” и др.).
Поэзия Цоя - это точный слепок с определенного слоя подростковой психологии. В его текстах - максимализм, агрессия, педалирование темы войны, причем войны всех против всех, битвы без цели и смысла - это то состояние войны, вечной оппозиции, в котором подросток находится по отношению к миру.
Творчество Цоя в этом контексте воспринимается как массовая версия некогда элитарного мифа. Классический текст “Звезда по имени Солнце” позволяет увидеть технику создания этого массового мифа. “Застылость” мифологического пейзажа, цикличность, характерная для мифологического понимания времени, символика цвета - мастерски создается некая вневременная схема, стержнем которой становится идея войны “между землей и небом”, извечной битвы, лежащей в основе круговорота природы. Но эта установка на вневременность совпадает с подростковым мироощущением, для которого все происходящее сейчас, в данный момент, кажется вечным и незыблемым. Подростковому сознанию чужда мысль о том, что “все течет, все изменяется”. С такой установкой удачно согласуется навязчивый лейтмотив “умереть молодым” (“война - дело молодых / лекарство против морщин”). 16-летнему юноше всегда кажется, что он не доживет даже до тридцати, а 40 лет для него - это уже глубокая старость.
Трансформация словаря Цоя также достаточно очевидна и тенденциозна: использование плакатной техники, обеднение лексики, упрощение словаря. Появляется штамп, возникают повторы, навязчивые слова, которые частично сохраняют романтическую ауру (“звезда”, “небо”), но и несут выраженную коннотацию агрессии, деструкции и тревоги (“огонь”, “пожар”, “ночь”, “война”).
Голос периферии
Подключение периферии к столицам, как упоминалось выше, также трансформирует облик рок-поэзии, лишая ее субкультурного качества. Говоря о все громче звучащем “голосе провинции” в середине 80-х гг., хотелось бы отметить два момента: это, во-первых, огромная роль бардовской традиции, ее активное использование в провинциальном роке, и, во-вторых, обращение к фольклору, устнопоэтической и народной песенно-музыкальной традиции.
Возвращение к бардам
КОНТРКУЛЬТУРА (1986-1991)
Мощный рост субкультуры в 1984-1986 гг. приводит к выходу ее из подполья - ее уже нельзя не замечать. Фестиваль в Подольске (август 1987 г.), который часто называют “советским Вудстоком”, стал чем-то вроде парада, смотра сил. Эта акция выделялась, во-первых, массовостью, во-вторых, репрезентативностью (в ней было множество участников из разных городов СССР, присутствовали все значительные группы), в третьих, тем, что ее уже не смогли запретить или “свинтить”. Субкультура заявила о себе через динамики. О ней узнают все - даже люди, далекие от нее. Этот момент и стал тем рубежом, перейдя который мы сталкиваемся уже с новым качеством.
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Одним из отличительных свойств, присущих рок-композициям А.Башлачева и Ю.Шевчука, является высокая степень реминисцентности текстов, обилие аллюзий, встроенность в культурную парадигму. Вследствие этого происходит контаминация или столкновение сходных, но не тождественных комбинаторно-приращенных смыслов; мифологические, литературные, историко-культурные реминисценции многократно наслаиваются. Анализ различных семантических уровней текстов "петербургских" рок-композиций данных авторов представляется более плодотворным, если в ходе него будет учитываться степень соотнесенности рок-поэзии с традицией, т.е. с основными аспектами Петербургского текста русской литературы.
В современном литературоведении критерии оценки русской рок-поэзии только формируются. До недавнего времени само существование данного жанра и тем более возможность его комплексного структурного анализа ставились под сомнение. Бытовало мнение, что тексты русских рок-композиций вторичны и в большинстве случаев являются кальками англоязычных образцов. "Вписанность" нового жанра в традицию отечественной словесности может быть продемонстрирована на примере преломления в нем основных особенностей Петербургского текста русской литературы, понимаемого как постоянно обновляющаяся содержательно и формально значимая эстетическая традиция.
В.Н.Топоров отмечает что "и призрачный миражный Петербург ("фантастический вымысел", "сонная греза"), и его (или о нем) текст, своего рода "греза о грезе", тем не менее принадлежат к числу тех сверхнасыщенных реальностей, которые немыслимы без стоящего за ними целого и, следовательно, уже неотделимы от мифа и всей сферы символического"[1].
Особое значение для духовно-культурной сферы имеют мифы и предания, пророчества, литературные произведения и памятники искусств, фигуры петербургской истории и литературные персонажи (одна из несомненных функций Петербургского текста — поминальный синодик по погибшим в Петрополе, ставшим для них подлинным Некрополем), все варианты спиритуализации и очеловечивания города[2]. С формальной точки зрения Петербургскому тексту присуще широкое применение приемов гротеска, гиперболизации, фантастического и иронического описания быта, овеществление живого.
Среди типов петербургских мифов четко выделяется оппозиция "божественное" — "дьявольское". В легенде, мифе о Петербурге город уподобляется живому существу, которое было вызвано к жизни роковыми силами и столь же роковыми силами может быть низвергнуто в прародимый хаос. Петербургский текст и соответственно петербургский миф неотделимы от образа создателя города. "В народных преданиях Петр — антихрист, порождение Сатаны, подмененный царь. Город, основанный им, не русский (то есть не истинный, противоестественный) город, его удел — исчезнуть с лица земли. В письменной литературе, напротив, Петр — личность исключительная, герой, титан, полубог. Город, основанный им, есть великое дело, которому суждено существовать в веках"[3], - отмечает Л.Долгополов.
Немаловажное значение имеет тот факт, что и писатели, и поэты настойчиво стремятся обозначить произведения, входящие в Петербургский текст, именно как "петербургские", — отмечает В.Топоров[4]. Эпитет "петербургский" является своего рода элементом самоназвания петербургского текста ("Медный всадник" имеет подзаголовок "Петербургская повесть", "Двойник" - "Петербургская поэма"; "Петербургские повести" Гоголя, рассказ Некрасова "Петербургские углы" (сб."Физиология Петербурга"), "Петербургская поэма", цикл из двух стихотворений Блока (1907), "Петербургские дневники" Гиппиус, "Петербургские строфы" Мандельштама, "Петербургская повесть" как название одной из частей "Поэмы без героя" Ахматовой и т.д.). Спецификация "петербургский" как бы задает некое кросс-жанровое единство многочисленных текстов русской литературы, - делает вывод исследователь.
Петербургский текст и петербургский архитектурный пейзаж взаимозависимы и обусловливают друг друга. Памятник Фальконе становится в ХХ в. источником приписывания городу двух покровителей: Петра и его двойника-антагониста — Змея. Сакральная роль памятника Петру отмечена и Даниилом Андреевым, согласно концепции которого Медный всадник в Петербурге является своеобразной "точкой пересечения" верхних и нижних миров, "инфра-" и "мета-Петербурга", причем Змей выступает как символ необузданной, грозной стихии, способной поглотить своего державного властителя[5].
Среди параметров Петербургского текста В.Н.Топоров выделяет и особые ситуации: "Из соотношения противопоставленных частей внутри природы и культуры и возникают типично петербургские ситуации: с одной стороны, темно-призрачный хаос, в котором ничего с определенностью не видно, кроме мороков и размытости, предательского двоения, где сущее и не-сущее меняются местами, притворяются одно другим, смешиваются, сливаются, поддразнивают наблюдателя (мираж, сновидение, призрак, тень, двойник, отражения в зеркалах, "петербургская чертовщина" и под.), с другой стороны, светло-призрачный космос как идеальное единство природы и культуры, характеризующийся логичностью, гармоничностью, предельной видимостью (ясностью) вплоть до ясновидения и провиденциальных откровений"[6].
Параллелизм визуального и словесного кодов, мотив двойничества, ситуация культурного билингвизма — вот признаки "поэтики Санкт-Петербурга" начала ХХ в. Эта поэтика, как считает Р.Д.Тименчик, "апеллировала к уходящей в бесконечность "эскалации отражений" — активность и неисчерпанность этой тенденции ощущается и сегодня"[7].
Тексты анализируемых в данной статье рок-композиций обладают свойством "апеллировать к уходящей в бесконечность "эскалации отражений". М.Тимашева пишет, что Ленинград стал центром отечественного рока, хотя "все начиналось в Москве", что "Ленинград выносил и молодежную культурную революцию", которая произошла "в тот момент, когда рок-культура осознала себя частью нашей культуры... Лирический герой, которого вырастил ленинградский рок, — герой исповедующийся, идущий от того, что принято называть внутренним миром личности"[8].
Лирический герой, личность автора в текстах петербургских рок-композиций, подобно героям петербургских повестей Гоголя, предстают чаще всего как "жертва Петербурга, для которой характерна позиция страха, неуверенности, одиночества и бессилия"[9]. Разумеется, данная позиция не является единственно возможной. Однако можно предположить, что подобное своеобразие лирического героя в основе своей имеет еще одну специфическую черту петербургского топоса, возможно определенным образом связанную со своеобразием Петербургского текста вообще и со своеобразием петербургской рок-поэзии в частности: "Как известно, Петербург — единственный из крупных "мировых" городов, который лежит в зоне явлений, способствующих возникновению и развитию психо-физиологического "шаманского" комплекса и разного рода неврозов"[10].
Обратимся теперь к текстам рок-композиций и посмотрим, как формируется в них личность лирического героя, в каких отношениях она находится с городом-мифом, каким образом в текстах отражается личность их авторов.
"Петербургская свадьба" А.Башлачева несет в своем названии "жанроопределяющий признак" (Топоров) и посвящена созданию монументальной картины Города, картины, где совмещаются временные планы, сближаются история и современность. Специфика построения этого образа носит мифопоэтический характер. К образу Петербурга у Башлачева можно отнести характеристику Д.Е.Максимова: "Приметы эпохи сохраняются и в мифопоэтических структурах, но время как бы растягивается в них. Они могут сохранять "злободневность", которая измеряется годами или несколькими десятилетиями. Но большей частью главным в них является не столько эта злободневность, если она вообще сохраняется, а широкие обобщения, выражающие закономерности целой эпохи или человеческой души, перерастающей локальный исторический период"[11].
"Петербургская свадьба" может быть соотнесена с жанром прогулок по Петербургу. В.Н.Топоров отмечает, что этот жанр обладает "не столько историко-литературной мемориальной функцией, сколько функцией включения субъекта действия в переживаемую им ситуацию прошлого"[12]. Лирический герой Башлачева, актуализируя знаковые элементы петербургского пейзажа, действительно "как бы "подставляет" себя в ту или иную схему, уже отраженную в тексте, отождествляет себя с соответствующим героем, вживается в ситуацию и переживает ее как свою собственную"[13]. Петербург осмысляется у Башлачева как художественный текст, и историко-культурные реалии служат для "настраивания" лирического героя на волну "прецедента-импульса" (так определяет Топоров цель прогулок-импровизаций, прогулок-фантазий). "Прецедентом-импульсом" для Башлачева служит текст "Медного всадника".
В последующих строфах композиции упоминаются такие реалии Петербургского архитектурного и историко-культурного текста, как Летний сад (показательно, что у Башлачева он — "голый", осенний, мокнущий под дождем, т.е. имеющий все признаки непарадной изнанки Города), "двуглавые орлы с подбитыми крылами" (вновь характерное снижение образа), которые "не могут меж собой корону поделить". Дворцы и мосты — неотъемлемая часть парадного петербургского пейзажа. Но у Башлачева их образы также носят предельно "дегероизированный", приземленный и вместе с тем антропоморфный характер: "калечные дворцы простерли к небу плечи"; в том же ключе построено и обращение к городу: "Ты сводишь мост зубов под рыхлой штукатуркой, // Но купол лба трещит от гробовой тоски".
В финальной строфе композиции возникает особый, башлачевский вариант Медного всадника:
По образу звезды, подобию окурка...
Прикуривай, мой друг, спокойней, не спеши.
Мой бедный друг, из глубины твоей души
Стучит копытом сердце Петербурга!
Благодаря обращению "мой бедный друг" возникает отсылка и пушкинскому "бедному Евгению", но это Евгений, являющийся двойником Медного всадника. Башлачев, развивая тезис пушкинской поэмы, подчеркивает парадоксальную психологическую амбивалентность этих двух персонажей, невозможных один без другого, составляющих неразрывное единство, связанных глубинным "родством душ". Но если у Пушкина Евгений лишь на мгновение становится наравне с "державцем полумира", бросая ему вызов, то "маленький человек" в композиции Башлачева постоянно ощущает присутствие частицы личности "строителя чудотворного" в своей душе.
На фоне "праздничной открытки с салютом", как характеризуется город у Башлачева, возникает и сам автор петербургской повести "Медный всадник", поданный иронически, в духе школьной литературной программы советского времени: "За окнами — салют. Царь-Пушкин в новой раме...". Пушкинское знаменитое обращение к поэту "Ты царь — живи один" редуцируется до стяжения "царь-пушки" и фамилии поэта, превратившейся в расхожую поговорку (ср. у Булгакова в "Мастере и Маргарите" реплики Никанора Ивановича Босого: "А за квартиру Пушкин платить будет?" и т.п.). Помимо этого, образ-символ "царь-Пушкин в новой раме" наталкивает на мысль о тотальной инверсии, которой подвергся образ поэта под прессом советской идеологии: поэт, который никогда не стремился стать политическим деятелем, не жаждал власти, иронически нарекается в тексте композиции "царем" отнюдь не в плане свободы творческого самовыражения. К тому же "царь-пушка" вносит элемент "милитаризации" в образ "Солнца русской поэзии". Кроме того, известна полная функциональная непригодность "царь-пушки" для боевых действий, так что даже и "милитаризация" дается здесь в пародийно-сниженном плане.
"Петербургскую свадьбу" Башлачева можно сравнить с "Петербургским романсом" А.Галича[14], который посвящен одному — но весьма значительному — событию петербургской (и российской) истории: восстанию декабристов. Галич встраивает в свой текст петербургские реалии: "Здесь мосты, словно кони, — // По ночам на дыбы!"; упоминает Синод и Сенат как значимые петербургские топосы. В третьей строфе "Петербургского романса" возникает блоковская реминисценция — "пожар зари". Но Галич более традиционен в трактовке темы, он использует образы-символы петербургского мифа, но не подвергает их переосмыслению и инверсии.
В.А.Зайцев отмечает, что для Башлачева "характерно поразительное чувство слова, его этимологии, звучания, экспрессии... И это слово вбирало в себя острейшее ощущение живого, движущегося времени"[15].
Приметами этого времени вряд ли могут служить такие знаки, воспроизводящие стереотипы массового сознания, как "усатое ура его недоброй воли // Вертело бот Петра в штурвальном колесе" (знак низвержения Петра — демиурга города), попытка представить в свернутом виде период русской истории от гражданской войны до "оттепели" ("Звенели бубенцы, и кони в жарком мыле // Тачанку понесли навстречу целине...") и т.д. Детали такого рода подтверждают справедливость мнения А.И.Николаева о том, что "в пределах одного стихотворения муза Башлачева то варьирует избитые темы, то взлетает на высоты, доступные лишь избранным"[16].
Историко-культурное пространство Петербургского текста "заштопано" у Башлачева "тугой суровой красной ниткой". Через весь текст композиции проходит мотив красного (кровавого) цвета, присущего городу ("заштопаны тугой суровой красной ниткой // Все бреши твоего гнилого сюртука"; "Вот так скрутило нас и крепко завязало // красивый алый бант окровленным бинтом"; "развернутая кровь как символ страстной даты"; "Сегодня город твой стал праздничной открыткой: // Классический союз гвоздики и штыка"). У Башлачева мотив красного цвета воспринимается на фоне соответствующих мотивов у Гоголя ("красная свитка" в "Сорочинкой ярмарке"); у А.Белого - красное домино Николая Аблеухова[17], у Блока - мотив красного цвета как характеристики города возникает в стихотворениях 1904 г. ("Город в красные пределы...", "Обман", "В кабаках, в переулках, извивах...") и у Ахматовой в "Реквиеме": "И безвинная корчилась Русь // Под кровавыми сапогами..."[18]. Все это придает образу Петербурга в тексте Башлачева традиционную инфернальную окраску, поскольку мотив красного цвета восходит к демонической, дьявольской составляющей облика Петербурга.
"Решетка страшных снов" символизирует у Башлачева власть инфернальных сил над человеком ("Гроза, салют, и мы — и мы летим над Петербургом, // В решетку страшных снов врезая шпиль строки"). Полустишие "решетка страшных снов" отсылает к пушкинской строке "Твоих оград узор чугунный". Но высокий пушкинский образ обретает здесь чудовищный смысл: "решетка страшных снов" символизирует несвободу человека в петербургском пространстве. Причем эта несвобода существует не только в физическом, но и в духовном плане. "Страшные сны" порабощают сознание лирического героя Башлачева. Здесь уместно вспомнить, что "сон" является одним из структурных признаков Петербургского текста, поскольку "морок" и "сонное марево" выступают в качестве знаков типично петербургской ситуации, для которой характерен хаос (как часть бинарной оппозиции "хаос — гармония"), "где сущее и не-сущее меняются местами" (Топоров): "Умышленность, ирреальность, фантастичность Петербурга (о нем постоянно говорится, что он сон, марево, мечта; греза и т.п.) требуют описания особого типа, способного уловить ирреальную (сродни сну) природу этого города. Парадоксальная геометрия и логика города находят себе ближайший аналог в конструкциях сна. Наконец, необыкновенная, по меркам русской жизни, сложность и тяжесть петербургского существования... делали необходимым обращение к сферам, которые (пусть вопреки очевидности) могли дать "сверхреальное" объяснение положению вещей и указать выход из него... "[19]. У Башлачева сон не является выходом из дьявольского пространства города, а, напротив, погружает человека в морок, обморок, черное небытие.
В качестве реализации выхода, бегства из "тюрьмы" Башлачев рассматривает в тексте возможность расширения пространства Петербурга-Ленинграда за его географические границы: "Искали ветер Невского да в Елисейском поле // И привыкали звать Фонтанкой Енисей". Город представляется неуничтожимым, неотторжимым от своих жителей.
Другой выход из ситуации несвободы реализуется в башлачевском тексте введением мотива полета, выступающего как преодоление "притяжения" Города и его отягощенной кровавыми преступлениями истории. Мотив полета-преодоления вообще характерен для Башлачева. В стихотворении "Рука на плече. Печать на крыле..." ("Все от винта!") он признается:
Я знаю, зачем
Иду по земле.
Мне будет легко улетать.
Но мотив полета выступает у Башлачева метафорой смерти. Взаимодействие мотива полета в данном значении с мотивом красного цвета порождает образ города, обреченного на уничтожение и обрекающего на гибель своих жителей. Можно сказать, что в данном случае текст Башлачева, подобно ахматовскому "Реквиему", выполняет и отмеченную Топоровым функцию "поминального синодика", присущую Петербургскому тексту.
Еще один, принципиально иной выход из ситуации физического и духовного подавления возникает в тексте Башлачева, когда от несвободы лирический герой спасается творчеством. "Шпиль строки", который тот "врезает" в "решетку страшных снов", заслуживает более пристального рассмотрения. "При существенной важности любой значительной вертикали в Петербурге и ее организующе-собирающей роли для ориентации в пространстве города, шпиль вместе с тем то, что выводит из этого профанического пространства, вовлекает в сакральное пространство небесного, "космического", надмирного, божественного. Поэтому петербургский шпиль, пусть на определенное время, в определенных обстоятельствах, когда человек находится в определенном состоянии, приобретает и высокое символическое значение... Петербургские шпили функционально отчасти соответствуют московским крестам: нечто "вещественно-материальное", что служит для ретрансляции природно-космического, надмирного в сферу духовного," — отмечает В.Топоров[20]. "В петербургской поэзии начала ХХ века часты упоминания главных петербургских шпилей в финале, pointe стихотворения, иконически отображавшие ориентацию петербургской перспективы на высотную доминанту, заостренную вертикаль"[21].
"Шпиль строки" у Башлачева несет в себе и черты "ретранслятора природно-космического в сферу духовного", и черты, характеризующие облик "петербургского поэтического языка".
Тема Петербурга как "тюрьмы духа", миражного города, обманчивый морок которого подчиняет себе личность человека, лишает его индивидуальности и превращает в "функцию" государственной машины, получает развитие в композиции Башлачева "Абсолютный вахтер", заставляющей вспомнить миражный Петербург повестей Гоголя и романа Андрея Белого:
Этот город скользит и меняет названья,
Этот адрес давно кто-то тщательно стер.
Этой улицы нет, а на ней нету зданья,
Где всю ночь правит бал Абсолютный Вахтер.
Несмотря на отсутствие в тексте композиции узнаваемой петербургской атрибутики, несмотря на возможность расширительного толкования образа города как наднационального символа, лишенного конкретного "наполнения", представляется возможным предположить, что именно Северная Пальмира, в прошлом — военная столица империи, является местопребыванием Абсолютного Вахтера. Именно здесь, с точки зрения автора, сосредоточены силы, которые определяют судьбы страны.
Абсолютный Вахтер становится универсальным воплощением идеи тоталитаризма, идеи абсолютной власти. Башлачев подчеркивает, что имя для данного образа-символа не является определяющим фактором: "Абсолютный Вахтер — не Адольф, не Иосиф".
Миражный, фантомный мегалополис, который "меняет названья" (Петербург — Петроград — Ленинград и, уже после гибели Башлачева, вновь Петербург) — это город, не принадлежащий всецело ни Востоку, ни Западу. Он становится универсальной ареной действия (и одновременно субъектом действия); здесь Абсолютный Вахтер вершит историю:
Он отлит в ледяную нейтральную форму,
Он — тугая пружина, он нем и суров.
Генеральный хозяин тотального шторма
Гонит пыль по фарватеру красных ковров.
Отметим, что в роли Абсолютного Вахтера может выступать и Медный всадник, в особенности если соотнести образ усмирителя невской стихии с развернутой метафорой "генеральный хозяин тотального шторма".
Город, который "скользит и меняет названья", город, где нет ни улиц, ни зданий, — это казенно-бюрократическая столица империи петербургских повестей Гоголя "Нос", "Невский проспект", "Шинель", "Портрет"; это город, где властвует Аполлон Аполлонович Аблеухов. К лирике Башлачева можно применить определение специфики урбанистической лирики Блока, следовавшего гоголевской традиции, которое дает З.Г.Минц: "Город" Блока, как, к примеру, "Невский проспект" Гоголя — не просто место действия, "среда", пассивное географическое окружение героев... Петербург в тексте выступает как персонаж"[22]. З.Г.Минц отмечает также, что Блок "объясняет "странное зло" города прямым вмешательством "инфернальных сил", в том числе и сил самого города, притворяющегося скоплением предметов лишь днем, а ночью проявляющего свою дьявольскую силу и способность управлять жизнью живых людей"[23]. В этой связи можно вспомнить, что В.М.Паперный, анализируя элементы гоголевской поэтики в "Петербурге" А.Белого, выделяет следующие доминантные мотивы: Петербург — "призрачный город, в котором человек теряет человеческое лицо, отождествляясь с вещью...; бюрократизированный город "присутственных мест"... "департаментов", "циркуляров", "чиновников", в котором человеческое начало подавлено бюрократической регулярностью; страшный и гибельный город, обрекающий человека на одиночество, безумие и болезнь, превращающий множество живых людей в нерасчлененную толпу..."[24].
В гротескном образе Абсолютного Вахтера, наделенного властью вселенских масштабов, "значительные лица" гоголевских повестей и "инфернальные силы" блоковской лирики обретают новую жизнь. Следует отметить, что Башлачев намеренно снижает образ центрального персонажа: не генералиссимус, не фюрер, не император, а вахтер "правит бал" в миражном городе. Вахтер — воплощение власти государственной машины, но в то же время он — и ее орудие, "винтик". Автор утверждает: "Абсолютный Вахтер — лишь стерильная схема".
Таким образом, в композиции парадоксально возникает тема "маленького человека" столь характерная для Петербургского текста. Если в "Петербургской свадьбе" "бедный Евгений" представал в роли двойника Медного всадника, то в "Абсолютном Вахтере" двойником значительного лица оказывается Акакий Акакиевич Башмачкин.
По словам Ю.М.Лотмана, Петербург в определенном литературном контексте (речь идет о 30-х гг. ХIХ в.) воспринимается "как пространство, в котором таинственное и фантастическое является закономерным"[25] ; закономерно появление в этом мифологизированном пространстве и такого персонажа, как Абсолютный Вахтер. Образ Абсолютного Вахтера можно сравнить с антропоморфными образами фантастических персонажей урбанистической лирики Блока. По словам Д.Е.Максимова, эти персонажи "выходили из недр гротескно преобразованной городской повседневности... и были художественно выявлены в сказочном или полуска
