Социокультурная метрика 1: постмодерн (его связь с модерном, его особенности)
Кризис образа
Кризис образования в современной России – не просто констатация технического сбоя функционирования образовательной системы. Все обстоит более серьезно. В нашем обществе полностью отсутствует консенсус относительно образа мира, в котором мы живем, и образа нас самих, то есть русской, российской идентичности. Это главный вопрос образования, но и главный вопрос современной общественной жизни.
Этот вопрос может решаться по-разному. Можно попытаться при анализе этой проблематики переложить ответственность на кого-то (например, на власть или на научное сообщество), попытаться найти виновного и спросить - почему у нас нет образа? Нет образа в науке, в народе, в культуре, во власти, в обществе в целом. Кто же в этом виноват? Мы, ученые? Может быть общество, которое этого образа не создает? Либо власть, которая этим не озабочена? Либо, если следовать теории заговора, «злодеи», которые этот образ у нас похитили? Все ответы хороши, и все в равной степени плохи. Поэтому модель, которую я предпочитаю в своей научной, интеллектуальной, политической и общественной деятельности – это просто работать на прояснение, или конституирование (как посмотреть) этого образа, одновременно, предлагая его определить, отыскать, утвердить и ученым, и народу, и интеллектуальной элите, и обществу, и власти. Если мы вырабатываем этот образ, мы должны делать это совместно, потому что кто-то один, какая-то одна инстанция или институция, его не сможет найти. В лучшем случае это будет схема, в худшем – симулякр. Власть является частью народа, получившей образование в неопределенное, смутное, полусоветское и полулиберальное время. Сплошь и рядом в политической элите мы встречаем людей с сознанием откровенно криминальным, но практически всегда запутанным и хаотичным. Наше научное сообщество тоже в достаточной мере одичало. Мы сталкиваемся либо с «добрыми дикарями», если имеем дело с «учеными» («ботаниками»), либо со «злыми дикарями», если мы имеем дело с властью и бизнесом.
Объективность метрики
В данном курсе я предлагаю сосредоточиться на самой насущной теме: на выработке образа России и мира, вернее, на подготовительных этапах такой выработки, то есть, на описании метрики и топологии нашей проблематики. Мы должны ответить – пусть приблизительно и гипотетически – на главные вопросы: «кто мы?» и «где мы?», быть может, лишь уточнить структуру этих вопросов, если ответить полноценно не удастся.
При разработке этой гипотезы «qui» et «qua» (кто? и где?) относительно России, нужно, по возможности, абстрагироваться от своих взглядов и предпочтений, от своих позитивных или негативных оценок. В первую очередь, задача состоит в том, чтобы выработать объективную модель метрики, то есть, определить, в каком мире мы живем и кем мы являемся, максимально объективно, рационально и взвешенно. Хорошо это или плохо, – эти акценты будут расставлены потом или расставлять их будет предоставлено кому-то другому. Поэтому этот курс максимально должен быть десубъективизирован и «аморальным» в ницшеанском смысле, то есть без оценок в отношении глобализма, постмодерна, прошлого России и современных процессов. Нужно попытаться вначале просто описать их так, как они есть. А каждый уже сам сможет придать этому знаки - поставить плюс, минус, хорошо, плохо.
Дефиниции постмодерна
Практически все сегодня на Западе согласны – с теми ли иными оговорками – что современное человечество (по крайней мере, его «цивилизованная» часть) живет в условиях постмодерна. Где? И когда? В социокультурном смысле это определяется через обращение к постмодерну. Мы – находимся в постмодерне. Но определив это, куда мы при этом попадаем? Поскольку нет никаких однозначных конвенций, каждый под «постмодерном» понимает что-то свое, а иногда вообще все, что угодно. Это означает, что под «постмодерном» никто ничего не понимает. Но это у нас. В той цивилизации, где этот концепт возник – то есть на современном Западе – определенная ясность есть. И для начала нашего самоопределения, мы просто обязаны четко понять, что под этим имеется в виду там.
Итак, что следует понимать под «постмодерном»? Под «постмодерном» следует понимать объективное состояние западноевропейского общества, выходящего из режима модерна. Модерн, который оставляется, преодолевается, «отменяется», «снимается» (в гегелевском смысле) был основан в Новое время, в конкретных исторических и географических (Западная Европа) границах, в эпоху Просвещении кристаллизировался, а в XIX – XX веках достиг апогея в политическом, интеллектуальном и научном смысле. Наука Нового времени – это та наука, с которой мы сегодня все еще имеем дело. Модерн воплотился в научных парадигмах позитивизма, материализма, атеизма, в политических системах секулярного общества, в либеральной демократии, в социокультунном представлении об индивидуальном достоинстве, в идеологии прав человека.
Так вот, постмодерн означает конец всего этого.
При этом постмодерн – это не «постмодернизм», не эпатажное творчество эстетствующих нигилистов типа американского режисеера Тарантино или российского писателя Сорокина. Постмодерн – это объективное состояние социально-политической, исторической, культурной и цивилизационной среды человечества в его западноевропейским сегменте, то есть в первую очередь там, где и развивалась история, которую мы называем модерном.
Модерн, который мы стремительно теряем
Понятно, что модерн пришел не везде одновременно и не везде глубоко укоренился. Модерн появился на Западе около 300 лет назад. Там он состоялся, выделился, оттуда он распространился поначалу колониально, а потом и постколониально на весь мир. Но, конечно же, когда мы говорим о модерне, мы говорим о западноевропейской цивилизации, о рациональном европейском «белом человеке», который первым среди других народов совершил переход от традиций, религий и иерархий к разуму, светскости и равенству. Он сделал разум высшей ценностью, построил на этом разуме всю свою систему, всю свою аксиологию, всю свою науку, всю свою методологию. А потом навязал ее всем остальным (можно сказать и иначе – «а потом облагодетельствал ею всех остальных» – смысл тот же; «навязал» – более нейтрально). Вот что такое модерн.
Воплощением модерна был позитивизм, материализм, атеизм и то общество, к которому мы все еще по инерции принадлежим, наше общество -- общество российское, европейское, американское и, в огромной степени, китайское, индийское, африканское, латиноамериканское. Вообще мировое общество до сих пор находится формально в модерне, и на поверхности все еще разделяет его конвенции.
Постмодернизм и постмодерн
Тезис о постмодерне появился в 1960-е, одним из первых его употребил Чарльз Дженкс (1), назвавший постмодерном некоторые особенности современной архитектуры. Позже идею подхватили и развили французские философы структуралисты и постструктуралисты. Постепенно термин вошел в оборот и стал обозначать все более широкие реальности. Начиная с конца 1970-х годов, наиболее авангардные философы, культурологи, критики, искусствоведы, социологи стали причислять себя к постмодернизму. Но это было только начало. Постмодернизм имеет такое же отношение к постмодерну как модернизм к модерну. Почувствуйте разницу. Модернизм – узко эстетическое направление европейской культуры начала ХХ века – Гауди в Испании, «Югендштиль» в Германии и т.д.. Но модерн – это вся эпоха Нового времени. Модерн начинается с Декартом, Бэконом и Ньютоном, а заканчивается с нами. Мы уже живем в последней фазе этого периода.
Поэтому постмодерн – это не постмодернизм его первых пропагандистов и теоретиков, – это объективное состояние социкультурной среды, цивилизации, экономики и политики, которое отличается от модерна так же, как Новое время отличается от Средневековья или общества Древнего Египта. В этом смысле постмодерн еще далеко до конца не сложился, не состоялся. Он наступает, он приходит, он замещает собой модерн. Исчерпывается постмодернизм – постмодерн же только начинается.
Поэтому мы не можем говорить, что мы живем строго в постмодерне. Но вместе с тем, мы живем именно в нем, потому что все основные цивилизационные процессы, развертываясь по инерционному сценарию, влекут нас именно в этом направлении. Вся логика истории человечества – от традиционного общества через стадию модерна обуславливает переход к постмодерну.
Постмодерн не может не наступить
Здесь встает такой вопрос – безальтернативен ли постмодерн? Безусловно, безальтернативен. Это принципиально. Это не выдумка, не гипотеза. Это естественное развитие процесса модерна, который входит в новую – последнюю – стадию и качественно меняется, преодолевая сам себя. Модерн, видимо, изначально нес в себе постмодерн – как дальнюю перспективу. Эпоха модерна была уже заражена этим постмодерном с самого начала, мы сейчас посмотрим насколько это так – хотя в истории постмодерн – это то, что объективно приходит вслед за модерном и во многом – против него, демонтируя систему его аксиом, принципов и истин...
В какой-то момент энергии, конструкции, аксиомы, типы, структуры того, что составляет специфику модерна, во всех своих философских, социально-политических, этических, гносеологических, когнитивных, эпистемологических аспектах подошли к определенному насыщению («сатурация» П.Сорокина). Можно сказать иначе – «к исчерпанию внутренних энергий». И вот тогда и встает вопрос о постмодерне.
Мы живем в мире постмодерна, который приходит и который не может не прийти. Рождается постмодерн изнутри самого модерна, как его внутренняя программа. Реализовав свой потенциал полностью, модерн начинает переходить в постмодерн. Если мы это поймем, то это уже будет большим и серьезным вкладом в понимание той метрики, той топологии современности (или уже постсовременности), о которой я говорю.
Постмодерн является продолжением модерна, то есть выходит из него, а не появляется извне, но при этом одновременно является и отрицанием модерна, его внутренним преодолением. В постмодерне завершается, в неожиданном виде сбывается то, что хотел осуществить модерн, но не мог в силу присущих ему ограничений.
Вот первый постулат, который чрезвычайно важно понять: мы живем в эпоху постмодерна, который наступает. Может ли он не наступить? Нет. Он не может не наступить, потому что, по сути дела, после того, когда модерн достиг определенной стадии, у него нет иного выхода, кроме как превратиться в постмодерн.
В битве за наследие модерна победил либерализм
Внутри модерна в ХХ веке существовали разновидности тех идеологических форм, которые модерн мог бы принять на своем последнем витке. Он мог бы стать фашистским модерном, потому что фашизм – это модернистская идеология с большим сочетанием архаических элементов. Но после 1945 года на этой возможности был поставлен крест. Он мог бы стать коммунистическим модерном, и многие коммунисты считали, что социализм, коммунизм и марксизм – это более развитая стадия модерна, нежели либерализм капиталистический. Когда в 1991 году СССР рухнул, стало ясно, что коммунизм не был модерном по настоящему. Обнаружилось, что это был не коммунизм, а национал-коммунизм (это очень важно осознать, причем безотносительно того, как мы к этому относимся, положительно или отрицательно), то есть это было сочетание архаического мифа (в духе Иоахима да Флора о «третьем царстве» в коммунистическом обличии) с сциентистской парадигмой позитивизма и марксистским экономизмом. Рационалистическая сторона коммунистической доктрины, как предложение построить альтернативный (капиталистическому) модерн или посткапиталистический модерн, была контаминирована изнутри мифологической, архаической подоплекой. В фашизме это было очевидно, в коммунизме – гораздо менее очевидно. И вот, наконец, победил либерализм, который фактически выиграл фундаментальное пари со своими идеологическими противниками (фашизмом и коммунизмом) в ходе двух Мировых войн и одной «холодной войны». За это – именно за это! – были пролиты реки крови. Это была битва за то, кто будет наследником модерна, какая идеология будет являться по-настоящему ортодоксально модернистической. Посмотрите, как важны парадигмальные акценты. Как важно подчас оценить, какую цену человечество платит за выяснение подобного рода философских истин. Не моргнув глазом, миллионы людей в ХХ веке шли на войну не за ресурсы, не за собственные интересы, не по каким-то экономическим причинам, а за идею, за наследство модерна.
Три великих идеологии: фашизм, коммунизм и либерализм бились между собой и приносили в жертву страны, народы, континенты. Гигантское количество людей было уничтожено, расстреляно, замучено самым страшным образом - за что? За выяснение только одного: какая среди этих идеологий будет наследником модерна. Вот насколько сильны философские парадигмы в истории.
Ницше говорил еще в конце XIX века о том, что предвидит время, когда войны будут не за интересы, а за идеи. И в ХХ веке – это были войны за идеи. В этих войнах победил либерализм. Несмотря на то, что это совсем уже очевидно, есть представители совершенно разных слоев и групп, которые полагают, что это не так. Действительно, мы живем в мире со сбитой метрикой…
Победа свободы
Вопрос не в том, что либерализм - это хорошо или плохо. Но то, что либерализм победил и отвоевал себе право быть единственной идеологией, адекватно воплощающей модерн – и исторически, и технологически, и концептуально. Вместе с тем, он продемонстрировал двум другим идеологиям, что причина их поражения была не только в том, что Гитлеру не хватило ума не нападать на Россию или не хватило танков, чтобы выиграть войну на два фронта, или что Советский Союз просто не справился с производством достаточного количества туфель на платформе, болониевых курток и разноцветных полиэтиленовых пакетов и поэтому раздраженный очередями народ, подстегиваемый коммунистами-реформаторами, скинул советскую систему, но в том, что они не в полной мере соответствовали духу модерна, примешивая к нему чужеродные (гетерогенные – не модернистические, архаические) элементы.
Победа либерализма не является технической или технологической победой в Первой, Второй и «холодной» войнах. Либерализм победил идеологически, потому что именно он соответствовал главной тенденции модерна на освобождение индивидуума от всех внеиндивидуальных обязательств. Свобода оказалась сильнее фашистского (расового) братства и советского марксистского (материального) равенства. Из трех членов формулы Французской революции - свобода, равенство и братство - мы увидели, как они иерархизированы в истории и какой из этих тезисов – «liberte, egalite, fraternite» – оказался действительно соответствующим сути модерна – это liberte. Свобода либералов оказалось, выше, чем расовое fraternite нацистов или egalite. Одни попытались настоять на своем, другие попытались, но ни тех, ни других больше нет.
Возможно ли возвращение фашизма и коммунизма в модерне? Нет, они могут прийти только как симулякры, как говорил Бодрийяр, и именно это мы сейчас наблюдаем.
Чукча-скинхэд и симулякр фашизма
Современные скинхеды сплошь и рядом являются людьми нерусского происхождения, как, например, чукча Рыно, который убил 37 гастарбайтеров в Москве и его подельник поляк Скачевский. Человек по фамилии Рыно, этнический чукча с другом-поляком убили 37 «приезжих», часть из которых были таджиками и армянами (то есть представителями арийских народов). Это называется «фашизм в России». Это, конечно, страшно, погибли люди, но вглядитесь в детали. С одной стороны, арийское fraternite, братство германского народа, который поднимается ради волнующей его архаической веры в Одина, завоевывает пол-Европы и заходит на виток мирового господства, довольно успешно сражаясь некоторое время против СССР и экономически развитого либерального Запада. С другой стороны, банда делинквентых маргиналов из мегаполиса, которая из-за проблем с социализацией докатывается до слабо формализованного – «приезжие» – насилия. Чукотский скинхэд Артур Рыно – типичный симулякр по Бодрийяру(2). Фашизм был могущественным и масштабным феноменом (и столь масштабными были его достижения и злодеяния), он принадлежит к истории. Это была полноценная битва за право освоить модерн. Эта битва была проиграна, провалена – причем самым кровавым образом.
Архаика в СССР
Советский план борьбы за модерн - не менее серьезная инициатива. Это уже не Рыно и гастарбайтеры. Это миллионы уничтоженных русских людей, разрушенные храмы, отрезанные красными комиссарами языки детей, певших «Аллилуйя». Это гигантская борьба за модернизацию архаического крестьянского русского народа и других народов, которые с русскими связали свою судьбу. Их, то есть нас, по-настоящему затронули модернизаторы. Казалось бы, после таких жертв модернизация должна быть полной и необратимой.
Но оказывается и сюда проникла архаика. И снова, как и в случае фашизма, это была ненастоящая модернизация. И это было девиацией, отклонением, потому что как и сквозь fraternite, пролезла архаика, так и даже сквозь egalite, где утверждалась такая модернистская вещь как равенство, тоже проникла архаика – на сей раз эсхатологическая архаика русских сект и хасидских мифов, которые были с ним солидарны. По Михаилу Агурскому(3), они вошли в резонанс – русские эсхатологические ожидания и не менее эсхатологические ожидания хасидских местечек, пролив совместно палящий огонь коммунизма, который практически 70 лет пугал (или восхищал) весь мир.
Правильная история модерна
Свобода из триады модерна оказалась минимально нагруженной архаическими премодернистическими коннотациями. Поэтому, и только поэтому, либерализм и капитализм победил. Победил окончательно, бесповоротно. Можно сколько угодно описывать технические приемы и экономические стратегии, которые привели его к победе. С точки зрения философии истории, это второстепенно. Победила свобода.
Сегодня все политические системы, все этические системы всего мира с разной степенью глубины и искренности, с разной степенью оптимизма (настоящего оптимизма, похоже, вообще не осталось), приняли либерально-демократическую модель. Мы с вами живем в обществе, где либерально-демократические ценности -- ценности свободы -- являются доминирующими и с точки зрения политических институтов, и с точки зрения социокультурных нормативов, и с точки зрения того, что называется американцами «конвенциональной мудростью» – conventional wisdom. Мы можем думать как угодно именно потому, что мы (номинально) свободны.
Но если отвлечься от этой индивидуальной свободы и посмотреть парадигмально на систему ценностей, которая доминирует в современной России, также мы увидим, что живем в либерально-демократической стране, чья Конституция скопирована с либерально-демократических образцов, чья политическая система разделения властей основана на либерально-демократическом принципе (где есть выборность президента, – на четыре, пять, десять лет, это не важно), чьи культурные установки ориентированы в либерально-демократическом ключе. У нас есть все признаки либеральной социальности: права человека, постоянны разговоры о гражданском обществе, воспевание толерантности и мультикультурализма. То, в чем мы живем, – это либеральная идеология.
Мы еще не начали говорить, собственно, о постмодерне, пока мы говорим о том, как где, и на чем кончается, судьба модерна. А судьба модерна заканчивается, завершается и исчерпывается в либерализме.
Таким образом, либеральная идеология является венцом того, что называлось модерном. И если это так, если в этой иерархии масонской триады эпохи Великой Французской революции можно однозначно установить приоритет liberte, свободы, то мы можем однозначно понять, как реально устроена логика мировой истории, мы сможем написать правильную историю модерна. Историю, где либеральная линия была главным центром и против нее пытались пробиться, прорваться различные архаические модели – то ли через Маркса (с его мифом о Иоахиме да Флора и левым гегельянством), то ли через через Джентиле(4) (и снова через идеи Гегеля с его прусским государством), то ли через откровенный архаизм расистского «мифа ХХ века» А.Розенберга.
Гегель и включенное третье
Интересно отметить роль Гегеля. Обращение к его философии присутствовало почти во всех идеологиях, которые пытались отрицать «legacy of liberalism», фундаментальную легитимность либерализма. Гегель пытался в рамках понятийного аппарата модерна, философии модерна найти способ ускользнуть от него, предложить такую модель, где модерн был бы тесно переплетен с премодерном.
Яснее всего это видно на примере пересмотра закона исключенного третьего, который лежит в основе «Большой Логики» Гегеля. В этом, если говорить философски, заключается вся хитрость. Дело в том, что закон исключенного третьего («либо А, либо не-А») принадлежит классической логике модерна. Его отрицание, то есть идея того, что «А» и «не-А» могут сосуществовать одновременно, напротив, характерно для традиционногого общества и, особенно, для архаических форм мышления. На этом принципе «tertium datum», «третье дано», на сочетании формально логически не сочетаемого, в премодерне основаны мифы, обряды, символы, ритуалы, доктрины и т.д.. Гегель через рациональные модели дискурса ввел иррациональный компонент премодерна в модерн. Именно поэтому один из наиболее последовательных либеральных теоретиков Карл Поппер инкриминировал Гегелю и его философии самые страшные преступления в области современной политики и выводил из них все известные в ХХ веке разновидности тоталитаризма.
Сегодня это кажется внятным и логичным объяснением. Но ранее это было непросто понять, потому что все идеологии XIX и ХХ вв. сплетались между собой в очень сложный клубок, все протекало в драматическом противостоянии идей и концепций.
Для нас важно, что и коммунизм, и итальянский фашизм в лице Джованни Джентиле (а также некоторые теоретики германского национал-социализма) вышли из гегельянства. Гегель был консерватором, правым, монархистом. Этатисты и коммунисты выросли на его идеях, и если мы пытаемся идентифицировать, что в них примешалось к модернистскому призыву освобождения индивидуума от всех связей, то мы должны в первую очередь уделить внимание Гегелю и его искусному отвержению закона «исключенного третьего».
Но вместе с тем, в самое последнее время в лице американских неолибералов – в частности, Фрэнсиса Фукуямы – мы видим, как это ни парадоксально, также обращение к Гегелю, правда, в отдельном аспекте его мысли о «конце истории». Американские либералы, никогда не интересовавшиеся особенно Гегелем, открывают для себя его эсхатологические и телеологические концепции именно тогда, когда их идеологические противники – фашизм и коммунизм – полностью повержены. Не свидетельствует ли это о том, что либерализм, самый близкий к чисто парадигме модерна идеологический тип, сам несет в себе отдельные элементы архаики? Но это обнаруживается только тогда, когда по настоящему архаические версии модерна окончательно уходят со сцены. Такое предположение подтверждается другим сюжетом – мифом Иоахима да Флоры.
Иоахимизм
Большое значение термин «третье царство» играет в мистике Иоахима да Флора. Это был калабрийский монах, который предложил троическую модель рассматривать диахронически: вначале было царство Отца, потом оно сменяется царством Сына в Новом завете, а потом наступает царство Святого духа, третье царство. Это, кстати, созвучно и Третьему Риму, и Третьему рейху, и Третьему Интернационалу. Миф Иоахима да Флора провозглашает, что придет такое время, когда обычные законы разделения, дифференциации, морали и власти будут опровергнуты, и наступит эпоха всеобщего безраздельного счастья, которая ознаменуется парусией, явлением Духа, которое снимает все ограничения и все дуальности.
На самом деле все три идеологии – и либерализм, и коммунизм, и фашизм имеют ярко выраженное иоахимитское происхождение и могут быть рассмотрены как три ветви иоахимитского мифа. Но исторически выяснилось, что в споре за реальную эстафету модерна, правы были только либералы. Таким образом, именно либералы выстроили такую идеологическую модель, которая жестко резонировала с «третьим царством» у Иоахима де Флора.
Отсюда делаем вывод, что смысл этой эсхатологической модели заключался в первую очередь в освобождении индивидуума, именно в свободе – а не в равенстве. Равенство было вторичным. Тем более, не в братстве, потому что когда стали смотреть, как это братство будет реализоваться в реальности, выяснилось, что оно проявляется только в органическом коллективе, в этнической цельности, в общине (Gemeinschaft Фердинанда Тенниса(5)). Братство претендовало на модерн недолго. С равенством оказалось сложнее, но и эта иллюзия рухнула (в 1991). И выяснилось, что смысл модерна заключается в освобождении. Отсюда либерализм как libertas, свобода. Это и есть основной тренд модерна.
Можно спросить: либерализм это освобождение индивидуума от чего? От чего хочет освободиться индивидуум? Ответ простой – от всего вообще; от всего внеиндивидуального; от всего того, что привязывает этого индивидуума к какой бы то ни было внеиндивидуальной системе, структуре общества. Свобода индивидуума от государства, от класса, от коллектива, от этноса (отсюда права человека, толерантность, нормы политкорректности). От каких бы то ни было запретов, которые препятствуют его самоидентификации.
Дальше это свобода индивидуума от пола, потому что гендер, с точки зрения либеральной теории, это концлагерь. Если мы мужчины или женщины, значит, мы подчиняемся этой идентичности, которая дана нам, обратите внимание, не индивидуально. Мы же индивидуальны. И чем больше мы индивидуальны, тем больше мы должны быть свободны от любых детерминационных систем и кодов, в том числе и от гендерной идентификации. Чтобы понять, что индивидуум от пола не зависит, самое простое – поменять пол. Был мужчиной, стал женщиной. Сейчас уже практикуются операции по многократной перемене пола, потому что кто-то побыл женщиной, надоело, опять стал мужчиной. С точки зрения биологической, это может вызывать патологические осложнения, но с точки зрения концептуальной, с точки зрения либерализма, это совершенно «естественно».
Речь идет о тотальном освобождении индивидуума от всего – от государства, от класса, от экономических границ, от этноса, от религии; от всего, что придает индивидууму внеиндивидуальную модель идентичности, включая гендер, и является преградой на пути торжествующего движения победившей модели модерна, очищенной от всех посторонних моментов.
Итак, единственной, настоящей ценностью модерна была свобода. Теперь мы можем выстроить то, что пока никем толком не делалось, – настоящую фундаментальную историю модерна, где главной осью будет свобода, а все остальное, что не являлось этой ценностью, в том числе братство и равенство, модно рассматрвиать как побочные флуктуации.
| |||
| |||
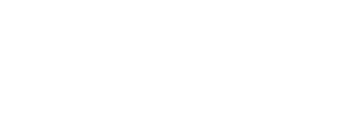 |
Схема идеологической истории модерна
Итак, не свобода вместе с равенством и братством, а свобода против равенства и братства, поскольку и равенство, и братство ограничивают свободу. Либеральная «Вульгата» Поппера(6) и Хайека(7) является не рядовым полемическим аргументом в идейных спора ХХ века, но «золотыми скрижалями» победившей версии модерна. Модерн есть либерализм, и смысл модерна заключался в освобождении.
Если теперь, зная про этот момент, которого не знали до 1991 года, будем рассматривать историю модерна – приблизительно по тому же принципу как это делал М.Фуко, – мы увидим, что изначально все институты модерна складывались именно на этой отрицательной эпистеме свободы от. На ниспровержении любых авторитетов, релятивизации всех ценностных суждений, на постепенной ликвидации любых социально-политических институтов, которые бы сдерживали стремление индивидуума к свободе.
Индивидуум освобождается
В основе этого освободительного процесса мы видим картезианский деизм. Это шаг в сторону освобождения индивидуума от теизма, от Бога, как его понимает церковь. Вместо этого утверждается деизм – вера в бога, основанная целиком и полностью на индивидуальном рассудке, на постановлении субъекта. В деизме «бог» мыслится как продукт мышления, а значит, такой «бог» освобождает индивидуума от Бога-Вседержителя. У Ньютона этот деистский бог уподобляется «часовщику», «великому механику». Бог становится рациональной гипотезой, необходимой для того, чтобы объяснить вещи, которые пока рационально не понятны.
После деизма наступает следующий этап освобождения – на сей раз от самого «великого механика», который подстраивает ход планет. Постепенно потребность в этой гипотезе отпадает, появляются прогрессисты - Кондорсе, Тюрго, Лаплас, которые отбрасывают ее. Это новая стадия освобождения – атеизм. Атеизм постепенно вытесняет деизм.
Но пока еще мы не свободны от морали. Пока мы еще не свободны от партий, от групп, от движений, от государств, которые сохраняют статус «ночного сторожа», гаранта соблюдения порядка и свободы торговли. Возникновение национальных государств и теория суверенитета связаны с освобождением от идеи Империи. Эти идеи впервые систематически развил протестантский теолог и юрист Жан Боден(9). Боден, Гоббс и Макиавелли сформулировали идею освобождения государства от всякого трансцендентного смысла и значения, поэтому все трое могут быть причислены к классикам либеральной идеологии. Они же заложили основы современной политологии.
Индивидуум освобождается от всего того, что можно назвать «общим» – по-гречески koinon.
Природа перехода от победившего либерализма к постмодерну
Теперь, переходим к постмодерну. В постмодерне именно эта тенденция, которая только сейчас стала очевидной, то есть чистый модерн как либерализм, завершается, снимается, превращается во что-то еще. Но это происходит не потому, что кто-то из недобитых коммунистов, фашистов, монархистов, архаиков всех мастей, бросил либерализму вызов. Сама идея либеральной свободы при переходе от парадигмы модерна к парадигме постмодерна автономно меняет свою природу, свое качество, причем столь же серьезно, столь же фундаментально и необратимо, как поменяла парадигма человеческого бытия свое качество при переходе от традиционного общества к парадигме модерна.
Как это может быть? Какова природа этого перехода? -- Вот это и есть главное, главная предпосылка, главный тезис той метрики, той топологии, той токсономии идей, которую необходимо осмыслить в первую очередь.
Либерализм обнажил суть модерна. Освободившись от дополнительных аксессуаров, которые исторически остались от предыдущих этапов, либерализм утвердил себя как магистральный догмат. С этим утверждением либерализма как догмата связана книга «Конец истории» Фрэнсиса Фукуямы(9), который позже сам признался, что поторопился сделать такие выводы. Но с точки зрения логики истории, он прав. Это может произойти не сегодня, возможно, это случится через какой-то этап, но ничего другого в историческом процессе западноевропейского человечества (которое стало доминирующим в планетарном масштабе и пошло по пути прогресса и развития) произойти не может. Тезис и идеи Фукуямы стали столь популярными, потому что они правильны. Он как индивидуальный автор может передумать. Но то, что он высказал, это совершенно корректное высказывание, формально заимствующее концептуальный аппарат гегельянства (через Кожева(10), который впервые предложил «конец истории» рассматривать не как «победу коммунизма», а как триумф либерализма).
Свобода есть полюс однополярного мира
Из этого вытекает несколько важнейших и конкретных моментов. Первое – создание однополярного мира. Что является полюсом этого однополярного мира? Это не обязательно Америка, не обязательно даже Запад. Этим полюсом является свобода. Абсолютная, бьющая ключом свобода индивидуума от всего остального – вот настоящая однополярность.
Да, исторически эта свобода закреплена как норматив и основной принцип в западноевропейском обществе. Там она поднята на щит, утверждена в качестве главной цивилизационной ориентации. В лице США она достигла самых убедительных, самых ярких форм. Но не США, не американцы являются настоящими промоутерами идеи однополярного мира. Однополярный мир, глобальный мир, глобализм, идея конца истории, все они имеют метафизическое философское обоснование в логике модерна и в идеологии либерализма.
Нас создали свободными
Поэтому, когда мы говорим, что нам что-то не нравится в глобализме или в американцах, или нас не устраивает кризис, мы говорим наивные вещи, обращаем внимание на частности, упуская из виду главное. За всем этим стоят не чьи-то козни, но логика мировой истории, которая четко и абсолютно движется к своему телосу, так как эта мировая история была кем-то задумана, реализована и сконфигурирована. Как только мы вступили в модерн, мы встали на путь свободы. Встав на путь свободы, мы выбросили абсолютно все, что мешало этой свободе. Вспомним слова Ницше: «Бог умер»(11). Но ведь это не все. Фраза-то звучит полностью так: «Бог умер, мы убили его, вы и я». Когда мы встали на путь свободы, мы убили Бога. И мы сейчас живем в цивилизации, в культуре, которая пожинает плоды этого убийства Бога. Почему нам мешал Бог? Он нам мешал, потому что мы решили полностью и тотально пройти путь свободы. Кто нас такими создал? Бог. Что он нам дал? Право свободы. Вот мы и захотели его полностью реализовать. И тот факт, что мы окончили в аду, как сегодня, это естественные следствия того, что мы надкусили яблоко свободы. Нас предупреждали о нежелательности такого поведения, но дали эту возможность надкусить его, сотворив нас свободными.
Ничто и неудобный вопрос
Западный мир, либеральный мир построил однополярную модель, сущность которой заключается в безальтернативности модерна. Но тут начинается самое интересное. Дело в том, что модерн, будучи реализованным, не имеет никакой длительности. Почему? Потому что, как говорил Ницше, после смерти Бога перед нами открывается ничто. В ХХ веке философы, которые мыслят немножко быстрее, чем экономисты, ясно поняли, что полная завоеванная свобода вводит в игру главное действующее лицо – ничто, nihil. Ничто становится главной темой современности. Отсюда проблематика Хайдеггера, Сартра, всего экзистенциализма. И в конце концов – Жиль Делез, который от «ничтожности воли» предлагал перейти к «воле к ничто», как главному и последнему аккорду западной философии(12). Делез все понял правильно, нам остается только понять (для начала корректно перевести и осмыслить по-русски). Его ничто принципиально. Ничто появляется по мере того, как индивидуум освобождается от всего.
С точки зрения логоса, который был осью истории Запад, если человек освобождается от всего koinon, от всеобщего, от всего того, что ограничивает его индивидуальную свободу, то когда это начнет сбываться, в хрупкой перспективе рациональности, история, действительно, должна закончить
