Единая и тройственная душа 11 страница
"О, не тоскуй по мне!
Я там, где нет страданья ...
Забудь былых скорбей мучительные сны ...
Пусть будут обо мне твои воспоминанья
Светлей, чем первый день весны.
О, не тоскуй по мне!
Меж нами нет разлуки:
Я так же, как и встарь, душе твоей близка,
Меня по-прежнему твои терзают муки,
Меня гнетет твоя тоска.
Живи, ты должен жить.
И если силой чуда
Ты снова здесь найдешь отраду и покой,
То знай, что это я откликнулась оттуда
На зов души твоей больной.
"Голос издалека", 1891 г.
Представим еще себе эти стихи пропетыми на музыку С.Рахманинова, и тогда станет понятно, почему древние киевляне так боялись Соловья-разбойника.
А вот еще один стихотворный пример (он тоже положен Рахманиновым на музыку):
Как мне больно, как хочется жить ...
Как свежа и душиста весна! ...
Нет, не в силах я сердце унять
В эту ночь голубую без сна.
Хоть бы старость пришла поскорей,
Хоть бы иней в кудрях заблестел,
Чтоб не пел для меня соловей,
Чтобы лес для меня не шумел.
Чтобы песнь не рвалась из души
Сквозь сирени в широкую даль,
Чтобы не было в этой тиши
Мне чего-то мучительно жаль!
В этом стихотворении Г.А.Галиной ("Весенняя ночь", 1900 г.) больше правды, чем в анархизме Бакунина, и в трактатах социалистов, народников и проч., где на самом-то деле все порождено нестерпимой тоской по духу души, затягиваемой в колесо материализма.
Сама по себе высокая эстетика русского искусства, рожденная опытом сверхчувственных переживаний, есть несомненное благо. Беда возникла оттого, что она соединилась с тройственной душой, не сумевшей удержать равновесия между идеалом и реальностью. Лишь целостная личность способна действительно христианизировать эту эстетику. В раздвоенной личности вместо Христа заговорил Люцифер древнего язычества. Односторонне, в обостренной климатом астральности Петербурга, в души людей стал раньше времени, то есть неправомерно, просвечивать Самодух. Это привело искусство как будто бы к новому взлету. Эстетизм символистов не поддается описанию, прозорливость литературной критики (которой занимаются сами поэты, писатели) почти достигает духа пророчества. С невиданной прежде ясностью встает понимание судеб России, грозящих ей бед и опасностей. Но во всем этом господствует по преимуществу воля к нисхождению, к смерти.* Ибо древний Иванчище остается "каликой перехожей", интеллигенция теряет с ним всякую связь, но одновременно - и со Христом. "Мы обречены необоримыми чарами своеобразного Диониса", - признается Вячеслав Иванов. "Да, обречены, - соглашается с ним Мережковский, - и в самом христианстве нашем, по преимуществу, аскетическом, "совлекающем", из-за лика Христа выглядывает звероподобный лик варварского Диониса, древнего Хмеля-Ярилы".
Но искушение двоится. За чувственной реальностью, возбуждавшей лишь страх, выступает дьявол-Ариман. Его природу также распознал Мережковский, o Упадком, несомненно, была охвачена вся русская культура, но столь же несомненно ведущую роль в этом играл Петербург Авторитет этого культурного центра был непререкаем.
М.В.Добужинский (1875-1957) дал ей образное воплощение (157). Во внутреннем же душ встает Денница-Люцифер. В своем явлении "свыше" он еще имеет (по-лермонтовски) привлекательный вид. Его певцом становится М.А.Врубель (1856-1910). Трагедия русского Диониса, не нашедшего пути ко Христу, предстает нам на полотнах этого художника: "Демон сидящий" (158), "Демон летящий", "Демон поверженный" (205). Некогда он подвинул человеческую душу к свободе, а ныне вместе с нею низвергается в бездну, если эта душа не спасает его, находя связь со Христом - Богом человеческого "я", Который являясь одновременно и новым Аполлоном, и новым Дионисом, ведет человека не к иллюзорной, а к Иерархической свободе, к свободе, основанной на любви.
Многое было сделано русской культурой, чтобы пробиться к такому пониманию Христа, и все же недостаточно много. Откровенное язычество врубелевских полотен показывает - что встало в подосновах душ. Эстетический ренессанс пошел рука об руку с декадансом. Внизу зашевелились темные духи природы, восстал первобытный "Пан" (206). Высокий взлет творчества возник над краем бездны. Возьмем примеры из поэзии А. Блока. Ее достоинства известны, глупо об этом спорить. Но ведь нельзя пройти мимо вещей симптоматологических. Сам Блок довольно ясно сознавал, что происходит. В письме к А. Белому он заводит речь об Астарте и высказывает мнение, что ее природа проявляется "... всего более в двух конечных пунктах человеческого бытия ... в утонченной половой чувственности и в утонченной головной диалектике". Но одно дело, что Блок понимал, и другое - что содержится в его творчестве. Совершенно прав замечательный современный философ и литературовед К.Свасьян, когда говорит о нем: "Ни у одного поэта не найдете вы такой свирепой патологии раскаленной страсти; Лермонтов и Бодлер - с ними созвучна тема Блока - сущие младенцы перед гиперболой любви у Блока ("разве это мы звали любовью?"); страсть здесь "буйная", "пагубная", "яростная", "дикая", "низкая"; и чего только здесь не встретишь: и "пил я кровь из плеч благоуханных", и "напрасных бешенство объятий", и "я перед ней как дикий зверь", и "В его руках ты будешь биться, крича от боли и стыда", и "страстный бред", и "бред поцелуев", и "старцем соблазненная жена", и "губы с запекшейся кровью", ... патология эта распространяется Блоком не только на людей (людей ли?), но и на природу: здесь и "обьятья могилы", и "развратная весна", и "Даже небо было страстно", и "мчатся бешеные дива жадных облачных грудей", и "планета ... как солнце ... горит от страсти"."
То, что звучало в поэзии Блока, было духовной пищей, содержанием жизни немалого числа представителей культурной элиты России конца XIX - начала XX века. В этой связи нельзя пройти мимо того, что происходило в известной "башне" Вяч. Иванова, куда эта культурная элита собиралась не только для бесед, но и в поисках основ для нового быта. "Попади в эту "башню", - писал А. Белый, - забудешь, в какой ты стране и в какой ты эпохе ... все сместится; и день будет ночью; и ночь будет днем".100 Речи там велись о Боге, о символизме, о судьбах России, но более всего об эросе; из тех речей рождались литературные направления, стили (которым потом следовали по всей России); параллельно же со всем этим в "башне" плелись замыслы групповых браков, о чем свидетельствует Маргарита Волошина, едва не упавшая с этой "башни" в нравственную бездну. В воспоминаниях о своем жизненном пути она рассказывает о том, как в кругу Иванова искали такой общности людей, в которую, как в магический круг, нисходил бы дух, искали прообраз будущей общины. Сам Иванов вместе с женой проповедовал некое учение, согласно которому "ячейкой" такой общины должна была стать любовь втроем (!). В подобной любви они видели "новую церковь (не ту ли, что описал Брюсов в своем рассказе "Последние мученики"?), в которой Эрос мог бы воплощаться до плоти и крови (!)".101 Поскольку же церковь нуждается в культе, то кое-что пытались нащупать и здесь: в общую чашу с водой капали кровь из надрезанных пальцев и затем вкруговую пили ее (поэты, писатели, критики, философы, художники). Трудно представить себе более чудовищное извращение идеи русской общины, созревавшей на протяжении всего XIX века, чем то, к которому пришли интеллигенты в "башне" Вяч.Иванова. Оно-то, извращение, и было злом, а не "русская идея", развиваемая Вл.Соловьевым, как ошибочно полагает Д.С.Мережковский.
XX век сохранил множество сплетен о "золотом веке" русской культуры. Записаны, хранятся и время от времени все снова вылезают на свет грязные вымыслы о Пушкине, Лермонтове, Чайковском, Достоевском, Льве Толстом и многих (если не всех) других. Но покрыты сумраком кулисы, как его называют, "серебряного века", когда именно моральный упадок стал причиной духовной, а затем социальной катастрофы. И чтобы ее понять (а не для сплетен) мы вынуждены в какой-то мере за эти кулисы заглянуть. Оговоримся еще раз, что мы при этом не имеем в виду весь феномен русской культуры начала XX века в целом. В нем есть немало по-настоящему ценного, высоко духовного. Русский ренессанс действительно имел место, а в нем - такое значительное направление искусства, как символизм. (Это большая и совсем мало исследованная тема). Но наряду с высоким, как ни в какой другой культуре, в России начала нашего века господствовал упадок. Причину его возникновения мы до какой-то степени показали. По отношению же к своему времени русские художники, писатели, мыслители оказались слишком слабыми, чтобы противостоять "железному" натиску века. Одни изменили высоким идеалам творчества, другие - жизненным идеалам нравственности и самого человеческого духа. Часть интеллигенции опустилась на такое "дно", которое в XIX веке не могло бы присниться даже в кошмарном сне. Много заниматься этим вопросом мы не станем, но один пример возьмем. Рассмотрим рассказ В.Брюсова "Последние мученики" (опубликован в сборнике под названием "Земная ось", М., 1906 г.) Мы не думаем принимать за действительность все, что содержится в этом рассказе, однако и полностью вымыслом его счесть нельзя. В какой-то части рассказ, несомненно, документален, а главное - симптоматологичен. В нем проглядывают те обширные кулисы, из-за которых произрастали все "цветы зла" декадентства.
Повествование в рассказе ведется от первого лица - непосредственного участника описываемых событий. В целом рассказ стилизован не более не менее, как под Евангелие от Луки. Герои рассказа - "религиозные мученики", которых Брюсов уподобляет ранним христианам. Произошедшее с ними - это "беспристрастная повесть, - как говорится в рассказе, - об одном из характернейших событий, совершившемся в начале того громадного исторического движения, которое его приверженцы именуют теперь "Мировой Революцией".
Поскольку речь идет о событии, которое еще не совершилось к 1906 г., то рассказ вроде бы фантастический. Главный персонаж рассказа узнает, что революция произошла. Он выходит на улицу и видит повсюду толпы возбужденных людей. Оратор возвещает о том, что совершилось давно всеми ожидаемое и проч. Его слушают с одобрением. В одном месте рассказчик встречает отряд революционеров с красными повязками. Своей организованностью они выгодно отличаются от взбудораженной массы. И тут рассказчику приходит мысль, что "в эту ночь место каждому из верующих близ тех Символов, которые наше поклонение уже сделало святыми". Он приходит в некий храм - архитектурное совершенство, созданное одним из гениальных прихожан. Дверь отворяется в ответ на условный стук. Внутри по широкой лестнице вверх и вниз снуют обеспокоенные люди. Рассказчик встречает одного из Совета Служителей по имени Адамантий, и тот объясняет ему, что случившееся - "это эра новой жизни", но сами они, попав между двумя мирами, будут "растерты в прах". Далее рассказчик беседует с некоей Анастасией. "Вся моя жизнь, - говорит она, - ... в тех утонченных переживаниях, которые возможны только на высоте! ... я не хочу вашей свободы, вашего равенства!"
Но вот на амвоне появляется жрец Феодосии в белоснежном хитоне, сопровождаемый группой дьяконисс. Он начинает говорить, и "голос его, как вино, проникающее в душу". Глаза его излучают гипнотическую силу, а из уст звучит: "Вера наша - последняя Тайна мира, которой поклоняются во всех столетиях и на всех планетах ... высшая страсть неотделима от смерти" и т.п.
Чуть позже рассказчика приглашают в особую комнату, где собрался Совет Служителей. Феодосии показывает проскрипционные списки "Центрального Штаба" революционеров. По приговору "Тайного Суда" все члены Совета внесены в эти списки и будут казнены. Вдруг появляется представитель "Штаба" и приказывает всем разойтись. Феодосии дает ему вдохновенную отповедь, в которой среди прочего говорит: "Мы стоим на тех вершинах сознания, до которых вы не достигали никогда"; в нашей церкви собирается "цвет нашего времени", поэты, художники, мыслители. Представитель на это отвечает: "Мы отсечем всех мертвых, всех неспособных на возрождение ... В нас довольно сил, чтобы породить новое поколение мудрецов и художников ... Мы отрекаемся от всякого наследства".
После ухода представителя Совет решает скрыть от паствы, что все они обречены, и служить последнюю службу. "Мы здесь для подвига веры!" - восклицает Феодосии. В храме зажигают все свечи, начинает звучать орган, и "... совершались великие обряды перед Символом. Обнаженные отроки, по чину, снимали покровы со святыни. Незримый хор дьяконисс славил Слепую Тайну". Стали раздавать вино. Вот появилась жрица Геро в одном лишь "золотозмейном" поясе, а с нею 12 "сестер", одетых "так же, как она". Жрица пошла в круговой пляске по храму, увлекая всех за собой. Стало нарастать исступление. И тут Феодосии провозгласил: "Придите, верные, сотворить жертву!" Все замерли. К Геро подошел прекрасный "как Ганимед" юноша. Стыдливо он скинул одежды и вместе со жрицей скрылся за завесой алтаря. "Свершилось!" - снова провозгласил Феодосии, вынес чашу и благословил всех. Исступленно заиграл орган, "и мы, - говорит рассказчик, - припали один к другому ...", "были сближения, сплетения, единения; были вскрики, стоны, боль и восторг", "изгибы тел женских, мужских, детских", "двойное, тройное, многочленное объятие".
Уже на рассвете неожиданно занавеси на окнах упали. Стоящие снаружи милиционеры, увидев "символ" и переплетенные на полу тела, открыли по ним стрельбу. Последнее, что слышал рассказчик, был возглас Феодосия: "В руки твои предаю дух мой!"
Но довольно примеров. Обратимся к самому прафеномену русской души. Что случилось с ним на рубеже веков? В процессе двухвекового развития он претерпел большую метаморфозу, в результате которой преимущественное воплощение в культуре получила тройственная душа. На этом пути развития возобладала стихия астрального тела и было поколеблено равновесное состояние "я" в душе рассудочной. Внизу, в астральности души ощущающей, ожило "пламя вожделений", или атавистический дионисизм, что привело к неким визионарным прозрениям в сверхчувственный мир; вверху, в астральности души сознательной, выступил, опять же в атавистическом облике, Аполлон, который тогда является не кем иным, как Люцифером - инспиратором искусства. Этим объясняется стремление художественной элиты начала XX века соединить эротизм с магизмом.* Она чувствовала, что на этой основе обостряются идущие сверху инспирации Люцифера, благодаря которым художественное творчество обретает неслыханный прежде эстетизм, утонченность формы. А что при этом оно совершенно порывает связь с Христианством - до этого им уже не было дела. Поясним эту констелляцию рисунком (см. след. стр.).
* См. признания А.Белого о магии слов у Блока.
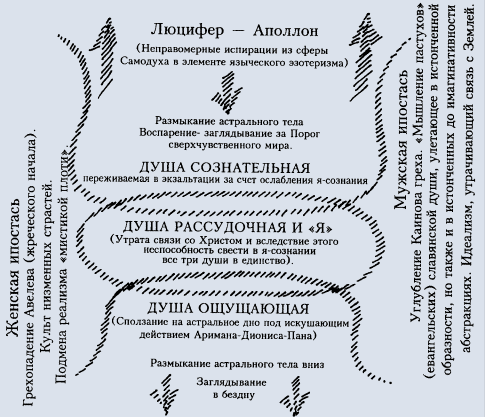
Таков был по своей сути русский "ренессанс-декаданс". Породившая его тройственная душа нашла в нем и свое собственное выражение. Мы узнаем ее, например, в образах романа Ф.К.Сологуба "Мелкий бес" (1907 г.). Для русского символизма в целом, представителем которого был Сологуб, характерно умение проникать до мифологического слоя культуры и оттуда насыщать содержанием свои образы; поэтому названный роман позволяет нам пройти в обратном направлении от образа до первичного феномена. Тема его по сути та же, что в Пушкинской "Пиковой даме", можно сказать, - главная тема русской литературы, хотя в подаче ее Пушкиным она может показаться непритязательной и второстепенной. Однако духовная ценность произведения искусства, как известно, не обусловлена его размером. Дело в том, что в начале XIX века русский Фауст, как в своем идеальном праобразе, так и в социальной реальности, был далеко не таков, чтобы для его воплощения в искусстве потребовался труд, проделанный Гете. Но проходит менее полустолетия, и образ настолько углубляется, приобретает такое общественное звучание, что уже требуется полновесный и первокласный роман, чтобы адекватно отобразить его проблематику. И таким романом является "Обрыв" (1869 г.) Гончарова. В его сюжете встают те же образы, что и в повести Пушкина: это бабушка, внучка, любовник; к ним добавляется еще четвертый персонаж - Райский (ведь тема развивается органично, как и сама жизнь).
Далее все это снова возрождается в романе Сологуба, пройдя еще через одну метаморфозу. Правда, по сравнению с пушкинским и гончаровским, произведение Сологуба, в известном смысле, - роман с "черного хода". Антиэстетизм, почти сплошь отрицательные герои превращают чтение романа в сущее испытание. И тем не менее, трудно найти другое, современное Сологубу, произведение, где так непосредственно была бы выражена фаустовская тема. Сологуб подходит к ней не извне, а изнутри, решает ее непосредственно в сфере того упадочного дионисизма, в среде которого он сам развивался и дух которого хорошо постиг. Гончаровская Вера в его романе превращается в Варвару; оба имени со смыслом, одно однозначно со словом "вера", другое - "варварка". Райский становится Передоновым. Опять же: Рай, выси и дно, дно последней степени: Передонов. Но вместо бабушки Бережковой Сологуб дает аналог образа пушкинской графини. Она (некая княгиня), правда, не родственница Варвары, но с ее помощью Передонов, подобно Германну, надеется добиться жизненного успеха: он ждет от нее протекции, которая поможет ему получить место школьного инспектора. Времена переменились, герой ищет не рискованного успеха с помощью карт, а стабильного благополучия. Княгиня (сама она в романе не появляется) может помочь Передонову, потому что Варвара когда-то служила у нее портнихой и компаньонкой. Передонов ставит условие, что женится на Варваре, с которой давно сожительствует, лишь в том случае, если та добьется от княгини протекции. А до того момента он присматривается к другим невестам в городе; те же, в свою очередь, охотятся за ним. Во всем, что делает Передонов, он поступает как антигерой. Кажется, что все доброе, человеческое ему чуждо. Злоба, зависть, мелочный эгоизм всецело заполняют его уже больную душу. Его образ - гротеск, в сравнении с пушкинскими и гончаровскими героями. И в то же время автор наделяет его архетипическими чертами. Подобно сказочному Ивану-Царевичу, Передонов - "вечный жених". И потому в городке, где он живет, все девицы на выданье думают о нем. Он сватается к трем сестрам Ругилова. Сцена эта - пародия на пушкинское: Три девицы под окном Пряли поздно вечерком.
Однажды вечером Передонов стоит во дворе под окном у Рутилова и ждет, пока тот приготовит старшую, Дарью, идти под венец. Но сомнения овладевают Передоновым. Он зовет Рутилова и просит готовить вместо Дарьи среднюю, Людмилу. Но та же история повторяется и с нею, и с младшей, Велерией. Девушки нервно смеются, а Передонов уходит.
У Передонова есть друг, Володин. Тот, напротив, никак не может найти невесту, ибо начисто лишен всякого внутреннего содержания. Даже обликом он напоминает барана: курчавые волосы, круглые глаза, блеющий смех.
Передонов и Варвара - это та двуипостасная (мужески-женская) душа, которая идет к земному воплощению со времени райского искушения. Она едина по духовной сути, хотя является по-разному в мужской и женской инкарнации. Сологуб показывает ее полную ариманизацию к концу XIX века. Это, естественно, не было судьбой каждого русского человека, а только тех, кто связал себя с рассудочной культурой, с городской цивилизацией. Некогда женская ипостась на пути от души ощущающей к рассудочной - "Бедная Лиза" - заявила о своих индивидуальных правах, однако была отвергнута индивидуализированной, но погруженной в сословные предрассудки, мужской ипостасью. Гармонии не получилось. У Пушкина они обе пробуждены, но падают жертвой люциферического и ариманического искушения, и только в смерти побеждают и соединяются в духе (финал оперы П.И.Чайковского). У Гончарова женская ипостась стоит на грани двух миров: мира единой и тройственной души. Наконец, у Сологуба она входит вослед герою в душу рассудочную, но там ариманизируется.
Сологуб просто гениально показывает в образе Варвары процесс отвердения, ороговения эфирных сил человека вследствие ариманизации: у Варвары прекрасное, язычески соблазнительное тело (в нем проявляется астральная стихия), но безобразная голова, грубые, покрасневшие руки, и ходит она как-то странно, будто колченогая. Весь облик ее плебейский, и от дворянства (духовный аристократизм) осталось в ней одно название.
Передонов ариманизируется не просто до порабощенности материальными интересами, он делается больным человеком. Его главная страсть - везде и всюду чинить людям мелкие пакости. Но чем более он ей предается, тем больше пустеет его душа, и он приближается к умопомешательству. Райский у Гончарова еще может спекулятивно разглагольствовать о моральной эмансипации и проч. Он, как и Вера, лишь одной частью соприкасается с миром тройственной души, другой же коренится в душе единой. Бабушка Бережкова, как прадревнее русское начало, служит им обоим опорой, она бережет традиции единства. В то же время, она - и некие "берега" реки русской жизни, не дающие ей разлиться в хаосе. Главное ее достоинство - верность русскому началу. Ее антипод - пушкинская графиня, "Венера Московская", растратившая в Париже все моральные ценности и ставшая в русской жизни злобным анахронизмом и зловещей тайной. Поэтому она может способствовать лишь гибели героев.
Передонов характером похож на пушкинскую графиню, а по сравнению с Райским уходит на дно до конца, "под обрыв", где у Гончарова бродит Марк Волохов. Там Передоновым овладевают галлюцинации. "Серая недотыкомка", воплощение мелкого бесовства Передонова (вспомним здесь Ивана Карамазова с его двойником), шныряет повсюду, и с нею плывет его сознание. Он приходит к войне всех против всех: "на всем были чары и чудеса, - читаем мы в романе. - Визжала дикая недотыкомка, злобно и коварно смотрели на Передонова и люди, и скоты. Все было ему враждебно, он был один против всех". Виновница его крушения - княгиня, или то аристократическое начало, по воле которого, как говорил Чаадаев, в один момент без войны и завоеваний одна часть русского населения оказалась в рабстве у другой. Освободившийся в своем сознании от оков родового, разночинец остался в рабстве у материалистических представлений аристократии, ибо она - истинный источник материализма. И вот дворянский декаданс как тяжелая карма постигает разночинца. Пробудившись в тройственной душе, разночинец зрит лик материализма, и вид его невыносим: Передонов "вдруг понял, что конец приближается, что княгиня уже здесь, близко, совсем близко. Быть может, в этой колоде карт.
Да, несомненно, она - пиковая или червонная дама". Он бросает карты в печь. Но, увы, княгиня - это не Саламандра Одоевского. Из огня встает "маленькая пепельно-серая женщина ... она пронзительно вопила тонким голосом, шипела и плевала на огонь.
Передонов повалился навзничь и завыл от ужаса. Мрак объял его ...".
В романе Сологуба встает вскрытая Достоевским в "братьях Карамазовых" тема двойника: Мы видим, что двойник, являвшийся материалисту Ивану лишь по временам, целиком воплотился в Передонова, вытеснил, заместил его личность. Потому ни одно светлое побуждение больше не свойственно Передонову. От человека остается лишь пустая оболочка - Володин. Этот персонаж выражает собою также и то конечное, логически необходимое состояние, к которому должен прийти Марк Волохов.* Двойник Передонова, изгнав его подлинную личность, совершает последний акт - убивает его "личину", Володина. Так кончается драма той русской фаустовской души, которая, начав свой путь от реформ Петра Великого, в конце концов пала жертвой Аримана. Ее итог: война всех против всех, безумие и смерть. Но Сологуб чувствует и иное - молодость русской души. Она умереть не может. Но что происходит с ней? Женская ипостась этой души - Людмила, одна из сестер Рутилова. Ее древний праобраз - Самодух, который на пути посвящения завоевывает Руслан; она же - Марья-Моревна, сказочная супруга Ивана-Царевича. Но в земной истории судьба ее сложилась иначе. Подобно пушкинской Лизе (в том аспекте, который открыл Чайковский), она прельщается "лунным" светом язычества. "Люблю красоту, - говорит она у Сологуба. - Язычница я, грешница. Мне бы в древних Афинах родиться. Люблю цветы, духи, яркие одежды, голое тело. Говорят, есть душа, не знаю, не видела. Да и на что она мне? Пусть умру совсем, как русалка, как туча под солнцем растаю".
* В романе Сологуба в ряде эпизодов оживает и гончаровская Вера. Она - дворянская девушка, образованная, свободно мыслящая, но в то же время достойная, скажем мы, "внучка" бабушки Бережковой. Володин сватается к ней, но опыт у нее уже иной, и задачи не те, да и сам Володин - не Волохов. С иронией она встречает его предложение и думает лишь о том, как бы не обидеть незадачливого претендента отказом.
Мужская ипостась этой души еще совсем юная. Это гимназист Саша - добросовестный и совестливый мальчик, который хорошо учится, сознает свои обязанности, долг. Его опекает добрая старушка, у которой родители Саши сняли для него квартиру. Но старушка - не Бережкова. Людмила же - словно райский змий. Изнывая от безделья и одиночества, она, подобно лермонтовскому Демону, начинает мало-помалу развращать гимназиста Сашу. И не без успеха. Мальчик слишком юн, почти еще ребенок. В его душу не вложили ничего, кроме некоторых абстрактных правил морали. Религиозности совсем не видно в нем. В то же время "пламя вожделений" таится в подосновах и его души. И вот он уже приведен к тому, что ему "хотелось что-то сделать ей, милое или больное, нежное или стыдное, - но что? Целовать ей ноги? Или бить ее, долго, сильно, длинными и гибкими ветвями? Чтобы она смеялась от радости или кричала от боли? И то, и другое, может быть, желанно ей, но мало". Как видим, и здесь нас встречает блоковское: "пил я кровь из плеч благоуханных" и проч.**
** Достойно глубокого удивления, как все это, спустя 80-90 лет, вновь восстает ныне и куда с большим размахом. Но осознать бы, сколь это не ново и чего стоило нам в прошлом!
Таким образом, разрываемый вакханками Дионис внизу и доведенный Ариманом до безумия Аполлон вверху - вот та конечная констелляция русской души, к которой она пришла, потерпев двойное крушение в ходе культурного развития России в XVIII и XIX веках. Но означает ли это смерть без Воскресения? - спросим мы. Такого не может быть никак.
Поэтому в нашей истории и культуре наступила "Пралайя".
