Этот аморальный, порочный, прекрасный роман Генри Миллера
Генри Миллер
Тропик Рака
Эти романы постепенно уступят место дневникам и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того, что он называет своим опытом, то, что действительно есть его опыт, и как записать эту правду собственной жизни правдиво.
Ральф Уолдо Эмерсон
Этот аморальный, порочный, прекрасный роман Генри Миллера
На долю Миллера досталось немало похвал, в том числе и от таких магараджей литературы, как Томас Элиот, Эзра Паунд, Эдмунд Уилсон. Паунд ограничился замечанием, шедшим в самый корень: «Вот неприличная книжка, заслуживающая того, чтобы ее читали». Элиот, который даже у Шелли видел сатанинское начало, стал, однако, поклонником Миллера и даже послал автору письмо (хотя и не выступил все же публично). Уилсон был автором одной из первых хвалебных (и, разумеется, накрахмаленных) рецензий на «Тропик Рака». Джордж Оруэлл написал в своем прекрасном очерке: «Это роман человека, который счастлив», — а для Оруэла счастье было едва ли не первой добродетелью. И далее: «Это единственный оригинальный прозаик из всех появившихся за последние годы в англо-язычных странах, который представляет собой определенную ценность».
Да, похвал, и самых громких, было немало. Норман Мейлер, столь заботливо собравший их в своей статье, добавил к ним далеко не худшие. «Миллер начал там, где остановился Хемингуэй, — писал он. — Мы читаем „Тропик Рака“, эту книгу грязи, и нам становится радостно. Потому что в грязи есть сила, и в мерзости — метафора. Каким образом — сказать невозможно».
Да, похвал и славы было много, но — потом. А вначале была трудная жизнь, нужда и хула, хула…
В молодости Миллер и не помышлял о писательской славе. Он много путешествовал по Америке. В начале двадцатых — ему было уже за тридцать — оказался в Париже. Мейлер пишет:
«Ему почти тридцать. Через несколько лет Хемингуэй напишет „Фиесту“, а Фицджеральд „Великого Гэтсби“ — оба писателя так много уже сделали к тридцати годам, а Миллеру к тридцати удалось добиться лишь того, что его взяли на телеграф одним из управляющих (Миллер „управлял“ мальчишками-курьерами. — В.К.).
Тем не менее именно тут по-настоящему начинается его литературный путь. И его сексуальный путь тоже. Никогда еще литература не знала подобного симбиоза. Миллер, может быть, единственный писатель во всей истории литературы, о котором можно сказать, что, если бы не его сексуальные чудеса, не было бы, пожалуй, и его литературных чудес. И с другой стороны, если бы не его успех как писателя, неизвестно, сохранил бы он так долго свою жизнеспособность как мужчина».
«Тропик Рака» впервые был опубликован в Париже в 1934 году. И сразу же вызвал немалый интерес (несмотря на ничтожный тираж). «Едва ли существуют две другие книги, — писал позднее Георгий Адамович, о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера „Тропик Рака“ и 'Тропик Козерога». К сожалению, людей, которым роман нравился, было куда больше, чем тех, кто решался об этом заявить вслух. А уж чтобы напечатать его на родине… Первая волна популярности поднялась там лишь спустя десятилетие, когда американские солдаты, оказавшись в Париже, на корню раскупили весь его английский тираж. Но минуло еще полтора десятилетия прежде, чем его все-таки решились издать в Штатах, да и то — издателям пришлось выдержать больше полусотни судебных процессов. Разумеется, по обвинению в растлении нравов! Впрочем, все это только ускорило покорение Америки прозою Генри Миллера. Нынче о ней написаны тома исследований, она изучается в университетах, постоянно переиздается, и трудно найти библиотеку или книжную лавку, где не было бы романов «Тропик Рака» и «Тропик Козерога».
На русском «Тропик Рака» впервые был опубликован все в том же Париже, в 1964 году тиражом всего в две сотни экземпляров, больше половины которых попытались было вывезти в Союз, но таможня сию крамолу перехватила и уничтожила. Разумеется, как порнографию. Хотя трудно придумать нечто более далекое от порнографии, чем проза Миллера.
Владимир Канторин 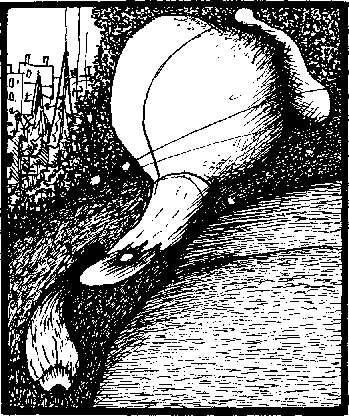
Я живу на вилле Боргезе. Кругом — ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы — мертвецы.
Вчера вечером Борис обнаружил вшей. Пришлось побрить ему подмышки, но даже после этого чесотка не прекратилась. Как это можно так завшиветь в таком чистом месте? Но не суть. Без этих вшей мы не сошлись бы с Борисом так коротко.
Борис только что изложил мне свою точку зрения. Он — предсказатель погоды. Непогода будет продолжаться, говорит он. Нас ждут неслыханные потрясения, неслыханные убийства, неслыханное отчаяние. Ни малейшего улучшения погоды нигде не предвидится. Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой — это вовсе не Время, это Отсутствие времени. Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен. Погода не переменится.
Это уже моя вторая осень в Париже. Я никогда не мог понять, зачем меня сюда принесло.
У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я — счастливейший человек в мире. Год назад, даже полгода, я думал, что я писатель. Сейчас я об этом уже не думаю, просто я писатель. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо.
В таком случае как же рассматривать это произведение? Это не книга в привычном смысле слова. Нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте… всему чему хотите. Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду танцевать над вашим грязным трупом…
Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровых легких и некоторое знание музыки. Не существенно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно желание петь. В таком случае это произведение — Песнь. Я пою.
Я пою для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь лучше, мелодичнее, но тогда ты, скорее всего, не стала бы меня слушать вовсе. Ты слыхала, как пели другие, но тебя это не тронуло.
Сегодня двадцать какое-то октября. Я перестал следить за календарем. В нем есть пробелы, но это пробелы между снами, и сознание скользит мимо них. Мир вокруг меня растворяется, оставляя тут и там островки времени. Мир — это сам себя пожирающий рак… Я думаю, что, когда на все и вся снизойдет великая тишина, музыка наконец восторжествует. Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос — партитура действительности. Ты, Таня, — мой хаос, поэтому-то я и пою. Собственно, это даже и не я, а умирающий мир, с которого сползает кожура времени. Но я сам еще жив и барахтаюсь в твоей матке, и это моя действительность. Дремлю… Физиология любви. Отдыхающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая мышь — penis libre. Животные с костью в пенисе. Следовательно, «костостой»… «К счастью, — говорит Гурмон, — костяная структура утрачена человеком». К счастью? Конечно, к счастью. Представьте себе человечество, ходящее с костостоем. У кенгуру два пениса — один для будней, другой для праздников. Дремлю… Письмо от женщины, спрашивающей меня, нашел ли я название для моей книги. Название? Конечно: «Прекрасные лесбиянки».
Ваша анекдотическая жизнь. Это фраза господина Боровского. Я завтракал с ним в среду. Его жена — высохшая корова — во главе стола. Она учит сейчас английский. И ее любимое слово — «filthy», что значит «грязный», «отвратительный», «мерзкий». Вам не понадобится много времени, чтобы разобраться, что это за язвы на заднице, эти Боровские. Но подождите…
Боровский носит плисовые костюмы и играет на аккордеоне. Неотразимое сочетание, особенно если учесть, что он неплохой художник. Он уверяет, что он поляк, но это, конечно, неправда. Он — еврей, этот Боровский, и его отец был филателистом. Вообще весь Монпарнас — сплошные евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Пола, и Кронстадт, и Борис, и Таня, и Сильвестр, и Молдорф, и Люсиль. Все, кроме Филмора. Генри Джордан Освальд тоже оказался евреем. Луи Никольс — еврей. Даже ван Норден и Шери — евреи. Фрэнсис Блейк — еврей или еврейка. Титус — еврей. Я засыпан евреями, как снегом. Я пищу это для своего приятеля Карла, отец которого тоже еврей. Это все необходимо понять.
Из всех этих евреев самая очаровательная — Таня, и ради нее я бы сам стал евреем. А почему нет? Я уже говорю, как еврей. Я безобразен, как еврей. Кроме того, кто может ненавидеть евреев так, как еврей?
Жратва — вот единственное, что доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. А на нашей великолепной вилле Боргезе не найдешь даже завалящей корочки. Я много раз просил Бориса заказывать хлеб к завтраку, но он всегда забывает. Он, очевидно, завтракает не дома. Возвращаясь, он ковыряет в зубах, и в его эспаньолке — остатки яйца. Оказывается, он ходит в ресторан из деликатности — ему, видите ли, тяжело уписывать сытный завтрак на моих глазах.
Взяв машинку, я перешел в другую комнату. Здесь я могу видеть себя в зеркале, когда пишу. Таня похожа на Ирен. Ей нужны толстые письма. Но есть и другая Таня. Таня — огромный плод, рассыпающий вокруг свои семена, или, скажем, фрагмент Толстого, сцена в конюшне, где закапывают младенца. Таня — это лихорадка, стоки для мочи, кафе «Де ла Либерте», площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой портвейн, сигареты «Абдулла», Патетическая соната, звукоусялители, вечера анекдотов, груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки, «который час?», золотые фазаны, фаршированные каштанами, дамские пальчики, туманные, сползающие в ночь сумерки, слоновая болезнь, рак и бред, теплые покрывала, покерные фишки, кровавые ковры и мягкие бедра… Таня говорит так, чтобы ее все слышали: «Я люблю его!» И пока Борис сжигает свои внутренности виски, она произносит целую речь, обращенную к нему: «Садитесь здесь …О Борис… Россия… Что я могу поделать?! Я полна ею!»
Ночью, глядя на эспаньолку Бориса, лежащую на подушке, я начинаю хохотать… О Таня, где сейчас твоя теплая п…нка, твои широкие подвязки, твои мягкие полные ляжки? В моей палице кость длиной шесть дюймов. Я разглажу все складки и складочки между твоих ног, моя разбухшая от семени Таня… Я пошлю тебя домой к твоему Сильвестру с болью внизу живота и с вывернутой наизнанку маткой… Твой Сильвестр! Он знает, как развести огонь, а я знаю, как заставить его гореть. Я вливаю в тебя горячие струи. Таня, я заряжаю твои яичники белым огнем. Твой Сильвестр немного ревнует тебя? Он что-то заподозрил? Что-то чувствует? Он чувствует в тебе. Таня, следы моего большого члена. Я разутюжил твои бедра, разгладил все морщинки между ногами. После меня ты можешь свободно совокупляться с жеребцами, баранами, селезнями, сенбернарами. Ты можешь засовывать лягушек, летучих мышей и ящериц в задний проход. Ты можешь срать, точно играть арпеджио, а на пупок натягивать струны цитры. Когда я е… тебя, Таня, я делая это всерьез и надолго. И если ты стесняешься публики, то мы опустим занавес. Но несколько волосков с твоей п…нки я наклею на подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду сплевывать двухфранковые монеты…
Проблема в том, что у Ирен не обыкновенное влагалище, а саквояж, и его надо набивать толстыми письмами. Чем толще и длиннее, тем лучше: avec des choses inouies. [1]Вот Илона — это просто воплощенная манда. Я знаю это, потому что она прислала нам несколько волосков с нее. Илона — дикая ослица, вынюхивающая наслаждения. На каждом холме она разыгрывала блудницу, а иногда и в телефонных будках и в клозетах. Она купила кровать для короля Карола и кружку для бритья с его инициалами. Она лежала в Лондоне на Тоттнем-роуд и, задрав юбку, дрочила. В ход шло все — свечи, шутихи, дверные ручки. Во всей стране не было ни одного фаллоса, который подошел бы ей по размерам — Ни одного. Мужчины влезали в нее целиком и сворачивались калачиком. Ей нужны были раздвижные фаллосы — не фаллосы, а самрвзрывающиеся ракеты, кипящее масло с сургучом и креозотом. Она бы отрезала вам член и оставила его в себе навсегда, если б вы ей только позволили. Это была одна пизда из миллиона, эта Илона! Лабораторный экземпляр — и вряд ли на свете найдется лакмусовая бумага, с помощью которой можно было бы воспроизвести ее цвет. К тому же она была врунья. Она никогда не покупала кровать своему королю Каролу.
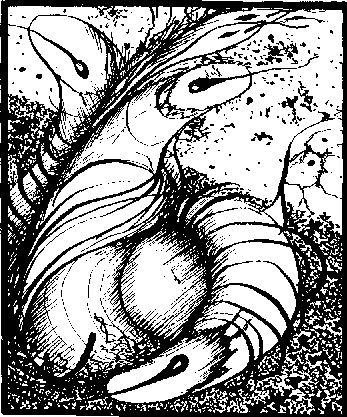
Она короновала его бутылкой из-под виски по голове, и ее глотка была полна лжи и фальшивых обещаний. Бедный Карол… он мог только свернуться калачиком внутри нее и помереть там. Она вздохнула — и он выпал оттуда, как дохлый моллюск. Огромные толстые письма, avec des choses inoui'es. Саквояж без ручек. Скважина без ключа. У нее был немецкий рот, французские уши и русская задница. Пизда — интернациональная. Когда поднимался ваш флаг, она краснела до макушки. Вы входили в нее на бульваре Жюля Ферри, а выходили у Порт-де-Вилле. Вы набрасывали свои потроха на гильотинную повозку — красную повозку и, конечно, с двумя колесами. Есть одно место, где сливаются ре-. ки Марна и Урк, где вода, сползши с плотины, застывает под мостами точно стекло. Там сейчас лежит Илона, и канал забит стеклом и щепками; плачут мимозы, и окна запотели туманным бздежом. Илона — единственная из миллиона! П… и стеклянная задница, в которой вы можете прочесть всю историю средних веков.
Я условился сам с собой: не менять ни строчки из того, что пишу. Я не хочу приглаживать свои мысли или свои поступки. Рядом с совершенством Тургенева я ставлю совершенство Достоевского. (Есть ли что-нибудь более совершенное, чем «Вечный муж»?) Значит, существуют два рода совершенства в одном искусстве. Но в письмах Ван Гога совершенство еще более высокое. Это — победа личности над искусством.
Телефонный звонок прерывает мои размышления, которые я все равно не довел бы до конца. Звонит некто, желающий снять квартиру…
Кажется, моя жизнь на вилле Боргезе подходит к концу. Ну что ж, я возьму эти листки и пойду дальше. Жизнь будет продолжаться везде и повсюду. Куда бы я ни пришел, везде будут люди со своими драмами. Люди как вши — они забираются под кожу и остаются там. Вы чешетесь и чешетесь — до крови, но вам никогда не избавиться от этих вшей. Куда бы я ни сунулся, везде люди, делающие ералаш из своей жизни. Несчастье, тоска, грусть, мысли о самоубийстве — это сейчас у всех в крови. Катастрофы, бессмыслица, неудовлетворенность носятся в воздухе. Чешись сколько хочешь, пока не сдерешь кожу. На меня это производит бодрящее впечатление. Ни подавленности, ни разочарования — напротив, даже некоторое удовольствие. Я жажду новых аварий, новых потрясающих несчастий и чудовищных неудач. Пусть мир катится в тартарары. Пусть человечество зачешется до смерти.
Я живу сейчас в таком бурном темпе, что мне даже трудно делать эти отрывочные заметки. После телефонного звонка явился какой-то господин с женой. Пока велись переговоры, я поднялся наверх и прилег. Вытянувшись на кровати, я думал о том, что мне делать. Не идти же назад в постель к этому педерасту и всю ночь выковыривать хлебные крошки, попавшие между пальцами ног. Какой тошнотворный маленький сукин сын! Если в мире есть кто-нибудь хуже педераста, то это только скряга. Запуганный жалкий ублюдок, постоянно живущий под страхом остаться без денег — может быть, к восемнадцатому марта и уж наверняка к двадцать пятому мая. Кофе без молока и без сахара. Хлеб без масла. Мясо без соуса или вообще без мяса. И без того и без этого! Грязный, паршивый выжига. Я однажды открыл его шкаф и нашел там деньги, запрятанные в носок. Больше двух тысяч франков плюс еще чеки. Я бы простил даже это, если бы не кофейная гуща на моем берете, отбросы на полу, не говоря уже о банках с кольдкремом, сальных полотенцах и вечно засоренной раковине. Уверяю вас, что от этого маленького подлеца шел смрад, пока он не обливался одеколоном. У него были грязные уши, грязные глаза, грязная задница. Это был расхлябанный, астматичный, завшивевший мелкий пакостник. Но я бы ему все простил за приличный завтрак! Однако чего можно ждать от человека, у которого запрятаны две тысячи франков в грязном носке и который отказывается носить чистую рубашку и мазать хлеб маслом. Такой человек не только педераст и скряга, но к тому же и слабоумный.
Впрочем, хватит о педерасте. Я должен держать ухо востро и знать, что происходит внизу. Там — некий мистер Рен с супругой. Они пришли посмотреть квартиру. Они говорят, что хотели бы ее снять; слава Богу, пока только говорят.
Борис зовет меня вниз, чтобы представить. Он потирает руки, точно ростовщик. Они обсуждают рассказ мистера Рена, рассказ о хромой лошади.
— А я думал, что мистер Рен — художник…
— Совершенно верно, — говорит Борис, подмигивая мне. — Но зимой он пишет, и пишет удивительно неплохо.
Я стараюсь втянуть мистера Рена в разговор — все равно о чем, пусть даже о хромых лошадях. Но мистер Рен почти косноязычен.
Борис сует мне деньги, чтоб я сходил за выпивкой. Я пьянею, уже пока иду за ней. И я точно знаю, что скажу, когда вернусь. Я иду по улице, и во мне бульбулькает приготовленная речь вроде разболтанного смеха миссис Рен. Мне кажется, что она в легком подпитии. В таком состоянии она, вероятно, хороший слушатель. Выходя из винной лавки, я слышу звук текущей мочи. Весь мир — в текучем состоянии. Мне хочется, чтобы миссис Рен меня выслушала…
Зажав бутылку между ног и подставив лицо солнцу, плещущему в окно, я снова переживаю прелесть тех первых тяжелых дней, когда я попал в Париж. Растерянный и нищий, я бродил по парижским улицам, как неприкаянное привидение на веселом пиру. Внезапно все подробности того времени всплывают в памяти — неработающие уборные; князь, чистящий мои туфли; кинотеатр «Сплендид», где я спал на чужом пальто; решетки на окнах; чувство удушья; жирные тараканы; пьянство и дуракаваляние. Танцы на улицах на пустой желудок, а иногда визиты к странным людям вроде мадам Делорм. Как я попал к мадам Делорм, я сейчас даже не могу себе представить. Но как-то я все-таки проскочил мимо лакея у дверей и горничной в кокетливом белом передничке и вперся прямо во дворец в своих плисовых штанах без единой пуговицы на ширинке и в охотничьей куртке. Даже и сейчас я вижу золото этой комнаты и мадам Делорм в костюме мужского покроя, восседающую на каком-то троне, золотых рыбок в аквариуме, старинные карты, великолепно переплетенные книги; чувствую ее тяжелую руку на своем плече и помню, как она меня слегка даже испугала своей тяжелой лесбийской ухваткой. Но насколько приятнее было болтаться в человсчсской похлебке, льющейся мимо вокзала Сен-Лазар — шлюхи в подворотнях; бутылки с сельтерской на всех столах; густые струи семени, текущие по сточным канавам. Что может быть лучше, чем болтаться в этой толпе между пятью и семью часами вечера, преследую ножку или крутой бюст или просто плывя по течению и чувствуя легкое головокружение. В те дни я ощущал странную удовлетворенность: ни свиданий, ни приглашений на обед, никаких обязательств и ни гроша в кармане. Золотое время, когда у меня не было ни одного друга. Каждое утро — безнадежная прогулка в банк «Америкен экспресс», и каждое утро — неизменный ответ банковского клерка. Я ползал тогда по городу, как клоп, собирая окурки, иногда застенчиво, а иногда и нахально; сидел на садовых скамейках, втягивая живот, чтобы остановить его нытье, или бродил По Тюильри, глядя на безмолвные статуи, вызывавшие у меня эрекцию…
Всего только год назад Мона и я каждый вечер, расставшись с Боровским, бродили по улице Бонапарта. Площадь Сен-Сюльпис, как и все в Париже, ничего тогда для меня не значила. Я отупел от разговоров и от человеческих лиц, меня тошнило от соборов, площадей, зоологических садов и прочей дребедени. Сидя в красной спальне в неудобном плетеном кресле, от которого изнывала моя задница, я поднимал книгу, смотрел на красные обои и слушал беспрерывный говор вокруг… Я помню эту красную спальню и всегда открытый сундук с ее платьями, разбросанными повсюду в кошмарном беспорядке. Красная спальня с моими галошами, тростями, записными книжками, к которым я даже не прикасался, и холодными мертвыми рукописями… Париж! Это был Париж кафе «Селект», кафе «Дом», Блошиного рынка, банка «Америкен экспресс», Париж! Тросточки Боровского, его шляпы, его гуаши, его доисторическая рыба и доисторические же анекдоты. Из всего этого Парижа двадцать восьмого года только один вечер отчетливо вырисовывается в моей памяти — вечер, когда я уезжал в Америку. Удивительная ночь с подвыпившим Боровским, дующимся на меня за то, что я танцую с каждой потаскушкой. Но ведь мы уезжаем в Америку завтра утром! Я говорил это каждой встречной бабе — уезжаем завтра утром! Я говорил это блондинке с агатовыми глазами. А пока я это говорил, она взяла мою руку и зажала ее между своими ляжками. В уборной я стою над писсуаром с монументальной эрекцией, и мой фаллос кажется мне одновременно и тяжелым и легким, как кусок свинца с крыльями. И пока я вот так стою, вваливаются две американки. Я вежливо приветствую их с членом в руке. Они подмигивают мне и уходят. Уже в умывальной, застегивая ширинку, я снова вижу одну из них, поджидающую свою подругу, которая все еще в уборной. Музыка долетает сюда из зала, и каждую минуту может появиться Мона, чтобы забрать меня, или Боровский со своей тростью с золотым набалдашником, но я уже в руках этой женщины, она меня держит, и мне все равно, что произойдет дальше. Мы заползаем в клозет, я ставлю ее у стены и пытаюсь вставить ей, но у нас ничего не получается. Мы садимся на стульчак, пытаемся устроиться таким способом, — и опять безуспешно. Как мы ни стараемся, ничего не выходит. Все это время она сжимает мой член в руке, как якорь спасения, но тщетно — мы слишком возбуждены. Музыка продолжает играть, мы вальсируем с ней из клозета в умывальную и танцуем там, и вдруг я спускаю прямо ей на платье, и она приходит от этого в ярость. Пошатываясь, я возвращаюсь к столу, а там сидят румяный Боровский и Мона, которая встречает меня строгим взглядом. Боровский говорит: «Слушайте, едем все завтра в Брюссель!» Мы соглашаемся. Когда я вернулся в отель, у меня началась рвота. Я заблевал все — кровать, умывальник, костюмы и платья, галоши, нетронутые записные книжки и холодные мертвые рукописи.
И вот несколько месяцев спустя — та же гостиница.
Я опять в той же комнате и, спасибо Евгению, с пятьюдесятью франками в кармане. Я смотрю во двор, но граммофон умолк. Сундук открыт, и вещи Моны разбросаны, как и раньше. Она ложится на кровать, не раздеваясь. Один, два, три, четыре… Я боюсь, что она сойдет с ума… Как хорошо опять чувствовать в постели под одеялом ее тело. Но надолго ли? Будет ли это навсегда? У меня предчувствие, что не будет.
Она говорит так лихорадочно и быстро, словно не верит, что завтра опять будет день. «Успокойся, Мона. Просто смотри на меня и молчи». В конце концов она засыпает, и я вытаскиваю из-под нее свою руку. Мои глаза слипаются… Ее тело — рядом со мной, и оно будет тут… во всяком случае до утра… Это было в феврале, в порту; метель слепила мне глаза; мы расставались. В последний раз я увидел ее уже в иллюминатор каюты; она махала мне на прощанье рукой… На углу на другой стороне улицы стоял человек в шляпе, надвинутой на глаза. Его жирные щеки лежали на отворотах пальто. Мерзкий недоносок, тоже провожавший меня, недоносок с сигарой во рту. Мона, машущая мне рукой… Бледное печальное лицо, непокорные волосы на ветру. Но сейчас — эта печальная комната и она, ее ровное дыхание, влага, все еще сочащаяся у нее между ног, теплый кошачий запах, и ее волосы у меня во рту. Мои глаза закрыты. Мы ровно дышим в лицо друг другу. Мы так близко, и мы — вместе. Америка за три тысячи миль от нас. Это просто чудо, что она здесь, в моей постели, дышит на меня и что ее волосы у меня во рту. До утра ничего уже не может случиться.
Я просыпаюсь после глубокого сна и смотрю на нее. Тусклый свет пробивается в окно. Я смотрю на ее чудесные непокорные волосы и чувствую, как что-то ползет у меня по шее. Я смотрю на нее опять. Ее волосы — живые. Я отворачиваю простыню — здесь их еще больше. Они расползлись по всей подушке.
На заре мы быстро собираемся и выскальзываем из гостиницы. Все кафе еще закрыты. Мы идем по улице и чешемся.
Мона голодна. На ней тонкое платье. Ничего у нее нет, кроме вечерних накидок, флакончиков с духами, варварских сережек, браслетов и помад. Мы садимся в бильярдной на авеню Мэн и заказываем кофе. Уборная не работает. Пока мы найдем другую гостиницу, пройдет какое-то время. Мы сидим и вытаскиваем клопов из волос друг у друга. Мона нервничает. У нее лопается терпение. Ей нужна ванна. Ей нужно то, нужно это. Нужно, нужно, нужно…
— Сколько у тебя денег?
Деньги! Я совершенно забыл о них. Отель «Соединенные Штаты». Лифт. Когда мы ложимся спать, еще совсем светло. Встаем в темноте, и первое, что мне надо сделать сейчас, — это найти деньги на телеграмму в Америку. Телеграмму недоноску с мокрой сигарой во рту. Но как бы то ни было, а на бульваре Распай есть испанка, которая никогда не откажет в горячей еде. К утру что-нибудь да случится. По крайней мере мы опять будем спать вместе. Без клопов. Грядет дождливый сезон. Простыни — без единого пятнышка…
Новая жизнь начинается для меня на вилле Боргезе. Сейчас только десять часов, а мы уже позавтракали и даже прогулялись. Теперь у нас в доме живет некая особа по имени Эльза. «Не валяй дурака, хотя бы несколько дней», — предупредил меня Борис.
День начался великолепно: яркое небо, свежий ветер, чисто вымытые дома. По пути на почту мы с Борисом обсуждаем книгу. «Последнюю книгу». Она будет написана анонимно.
Так вот, у нас появилась Эльза. Она играла для нас сегодня утром, пока мы были в постели. «Не валяй дурака, хотя бы несколько дней». Я согласен. Эльза — горничная, я — гость. Борис — важная персона. Начинается новая эпопея. Я смеюсь, пока все это пишу. Борис, эта лиса, знает, что должно случиться. У него нюх на такие вещи. «Не валяй дурака…»
Борис как на иголках. В любой момент может появиться его жена. Она весит больше восьмидесяти килограммов, эта дама. Борис весь умещается у нее на ладони. Такова ситуация. Он объясняет мне все это, когда мы возвращаемся вечером домой. Все, что он Говорит, трагично, но и смешно, и я не могу сдержаться и смеюсь ему в лицо. «Почему ты смеешься?» — спрашивает Борис серьезно, но тут же начинает смеяться сам; он смеется со всхлипами, истерическими взвизгами, смеется, как беспомощный мальчик, который понимает, что, сколько бы он ни напялил на себя сюртуков, из него никогда не получится настоящий мужчина. Борис мечтает сбежать и изменить имя. «Пусть эта корова забирает все, — хнычет он, — только пусть оставит меня в покое». Но прежде ему надо сдать квартиру, подписать документы и выполнить тысячи формальностей, для чего он и держит сюртук. Размеры этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего прочего. Если бы он вдруг увидел ее сейчас стоящей на ступенях, то, вероятно, упал бы в обморок. Вот как он ее уважает!
Итак, не надо валять дурака с Эльзой. Она тут для того, чтобы готовить завтрак и показывать квартиру будущим постояльцам.
Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь. Меланхолические песни. Сходя по лестнице сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал: «Es war so schцn gewesen». [2]Это к завтраку-то! И потом этот молодой человек наверху со своим Бахом. Эльза говорит: «Ему нужна женщина». Эльзе тоже кое-что нужно. Я это чувствую. Я не сказал Борису, но сегодня утром, пока он чистил зубы, она рассказывала мне про Берлин и тамошних женщин, которые очень аппетитны сзади, а повернутся — и, пожалуйте, сифилис!
Мне кажется, что Эльза посматривает на меня с тоской, как на остатки от завтрака. Сегодня, после обеда, мы оба пошли в студию, чтобы кое-что написать. Мы сидели спина к спине за нашими пишущими машинками. Она начала письмо своему любовнику в Италии, но у нее заело машинку. Бориса не было дома — он ушел на поиски дешевой комнаты, куда тут же переберется, когда сдаст квартиру. Ничего не оставалось делать, как подъехать к Эльзе. Она этого хотела, но все-таки мне было ее немного жалко. Она написала только одну строчку своему любовнику — я прочел ее, когда нагибался к ней сзади. Но ничего не поделаешь. Это все проклятая немецкая музыка, сентиментальная и грустная. Она расслабляет меня. А потом — эти ее бисерные глазки, такие горячие и печальные одновременно.
Когда все было кончено, я попросил Эльзу сыграть что-нибудь для меня. Она музыкантша, эта Эльза, хотя ее музыка и звучит так, точно кто-то бьет горшки. Что ж, я ее понимаю. Она говорит, что везде с ней случается одно и то же. Везде ее подстерегает мужчина, в результате ей приходится бросать место; потом аборт; потом новое место и новый мужчина, и всем насрать на нее с высокого дерева, все хотят только пользоваться ею. Все это она говорит мне, сыграв Шумана — Шумана, этого плаксивого сентиментального немецкого нытика! Мне жалко Эльзу, но в то же время наплевать на нее — баба, которая играет Шумана, должна уметь не попадаться на каждый встречный поц. Но этот Шуман… он хватает меня за душу, отвлекает от скулящей Эльзы, и мои мысли уносятся в прошлое. Я думаю о Тане, о своей жизни и о том, что безвозвратно кануло в Лету. Я вспоминаю летний день в Гринпойнте, когда немцы громили Бельгию, а мы, американцы, еще были достаточно богаты, чтоб не думать о судьбе какой-то нейтральной Бельгии. Мы были еще настолько наивны, что слушали поэтов и сидели вокруг спиритических столов, «выстукивая» духов. Воздух был напоен немецкой музыкой — ведь все это происходило в немецком районе Нью-Йорка, более немецком, чем сама Германия. Мы выросли там на Шумане, на Гуго Вольфе, на кислой капусте, кюммеле и картофельных клецках… Я помню, в тот же вечер был устроен очередной спиритический сеанс, и мы сидели за большим столом. Занавески были опущены, и какая-то дура пыталась вызвать дух Иисуса Христа. Мы держались за руки под столом, и моя соседка запустила два пальца в ширинку моих брюк, потом я помню, как мы лежали на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню… Я помню давящий воздух комнаты и сивушное дыхание моей партнерши. Я смотрел на педаль, двигавшуюся вниз и вверх с механической точностью — дикое, ненужное движение. Потом я посадил свою партнершу на себя и уперся ухом в резонатор пианино.
В комнате было темно, и ковер был липким от пролитого кюммеля… Дальше все было в каком-то тумане… Мне казалось, что светает, что вода переливается через синий лед, над которым висит туманная дымка, что глетчеры ползут в изумрудную синеву, что серны и антилопы проносятся мимо, золотые сомы щиплют водоросли и моржи прыгают через Полярный круг…
Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза — как пупки. Я смотрю на ее влажный блестящий рот и покрываю его своим. Она мурлычет: «Es war so schцn gewesen…» Ax, Эльза, ты еще не знаешь, что все это для меня значит, ваш «Trompeter von Sackingen». Немецкие хоровые общества, Швабен Халле, Turnverein… links urn, rechts um… [3]а затем удар веревкой по заднице.
Я уже говорил, что день начался божественно. Только этим утром после нескольких недель пустоты я снова физически ощутил Париж. Может, это потому, что во мне начала расти Книга. Я повсюду ношу ее с собой. Я хожу по городу беременный, и полицейские переводят меня через дорогу. Женщины встают и уступают мне место. Никто больше не толкает меня. Я беременный. Я ковыляю, как утка, и мой огромный живот упирается в мир.
Сегодня утром, по пути на почту, мы с Борисом поставили окончательную печать одобрения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия — Последняя Книга. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь — анонимно. Мы выдоим наш век, как корову. После нас не будет новых книг по крайней мере целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у нас будет сосуд, в который мы вольем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы запихаем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет. В этой идее — колоссальный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас.
День идет бодрым шагом. Я стою на галерее у Тани. Внизу, в гостиной, разыгрывается драма. Главный драматург болен, и отсюда, сверху, его череп выглядит еще более опаршивевшим, чем всегда. Его волосы — солома. Его мысли — солома. Его жена — тоже солома, но немного еще влажная. Я стою на балконе и жду Бориса.
Мне еще никто не сказал, в чем, собственно, заключается драма, происходящая внизу. Но я догадываюсь. Они стараются отделаться от меня. А я все-таки здесь, в ожидании обеда, и даже раньше, чем обыкновенно.
Таня настроена враждебно. Ее раздражает, если я замечаю еще что-то, кроме нее. По калибру моего возбуждения она понимает, что сейчас ничего для меня не значит. Она знает, что сегодня я не собираюсь ее удобрять. Она знает, что во мне что-то зреет и это «что-то» превратит ее в ноль. Она не слишком сообразительна, но тут она хорошо сообразила…
У Сильвестра вид более удовлетворенный. Он будет обнимать Таню за обедом. Даже сейчас он не прерывает чтения моей рукописи, готовясь воспламенить мое «я» и использовать его против Таниного.
Любопытное сборище будет здесь сегодня. Сцена уже почти готова. Я слышу позвякивание стаканов. Приносят вино. Когда опустеют стаканы, Сильвестр вылезет наконец из своей болезни.
Вчера вечером у Кронстадтов мы разработали сегодняшнюю программу. Мы решили, что женщины должны страдать, а за кулисами должны происходить ужасы, бедствия, насилие, горе и слезы — как можно больше. Это не случайность, что люди, подобные нам, собираются в Париже. Париж — это эстрада, вертящаяся сцена. И зритель может видеть спектакль из любого угла. Но Париж не пишет и не создаешрам. Они начинаются в другюоместах. Париж подобен щипцам, которыми извлекают эмбрион из матки и помещают в инкубатор. Париж — колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так нс Вена, как в Париже. Все достигает здесь своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются другими. На стенах парижских домов вы можете прочесть, что здесь жили Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг — любой, кто хоть что-нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирал в Париже…
Воскресенье! Я ушел из виллы Боргсзе перед завтраком, как раз когда Борис садился за стол.
Можно ли болтаться весь день по улицам с пустым желудком, а иногда и с эрекцией? Это одна из тех тайн, которые легко объясняют так называемые «анатомы души». В послеполуденный час, в воскресенье, когда пролетариат в состоянии тупого безразличия захватывает улицы, некоторые из них напоминают вам продольно рассеченные детородные органы, пораженные шанкром. И как раз эти улицы особенно притягивают к себе. Например, Сен-Дени или Фобур дю Тампль. Помню, в прежние времена в Нью-Йорке около Юнион-сквер или в районе босяцкой Бауэри меня всегда привлекали десятицснтовые кунсткамеры, где в окнах были выставлены гипсовые слепки различных органов, изъеденных венерическими болезнями. Город — точно огромный заразный больной, разбросавшийся по постели. Красивые же улицы выглядят нс так отвратительно только потому, что из них выкачали гной.
