Глава четырнадцатая. видимые слова
|
По данным ЮНЕСКО, у людей, живущих на нашей планете, 2796 языков и 8 тысяч диалектов. Из них сколько-нибудь основательно изучены полтысячи. Вот такая статистика. Да еще: три четверти языков не имеют своей письменности, и две трети жителей Земли говорит всего на 27 языках.
Человек – по крайней мере в принципе – может выучить все языки планеты. Но посмотрите, много ли среди нас полиглотов? Пять языков вызывают уважение, знающий семь становится знаменитостью местного масштаба, владеющий шестнадцатью выходит на международный уровень известности... Трудное это дело – говорить «по-иностранному», как бы ни уверяли, что доступно оно каждому.
А маленький ребенок шутя овладевает любым языком.
Что значит – овладеть языком?
В любом языке есть словарный запас и грамматика. С помощью слов мы указываем на предметы и явления – это называется номинацией. Грамматика показывает, как следует сочетать слова между собой, чтобы из них получились понятные другим предложения.
Лингвисты полагают – первым эту идею выдвинул американец Ноэм Хомский, – что у человека есть нечто такое, что именуется языковой способностью. Это «нечто» (и только оно!) дает возможность говорить понятно и, главное, правильно с грамматической точки зрения.
Психологи же утверждают, что человеку свойственна языковая активность – способность произносить слова и фразы на своем языке. Но психологи не требуют, чтобы речь была грамматически правильна. Достаточно, чтобы была понятной.
И тут начинаются очень серьезные трудности. Языковая способность «по Хомскому» непременно связана с глубинной грамматикой, порождающей фразы. Глубинной потому, что она спрятана где-то в подсознании. Эта грамматика, согласно лингвистам, состоит из набора правил (лингвисты называют их операциями), по которым можно построить любое предложение на данном языке. Только вот вопрос: представляет ли себе говорящий эти правила? По-видимому, нет. Правила вскрывает ученый, специально изучающий такую подсознательную грамматическую работу. Но тогда у говорящего обязаны быть хотя бы интуитивные, неясные представления об этой грамматике? Да, они есть, отвечают лингвисты.
Что ж, психологи берутся за эксперименты, разрабатывают модели языковой активности и пытаются привести их в соответствие с интуитивными лингвистическими представлениями о грамматике. Но как ни изощряются психологи, им никак не удается вскрыть реальные правила, которыми пользуется человек, чтобы говорить, – правила в психологическом смысле, то есть связанные с какими-то сторонами мозговой деятельности...
Овладеть языком – значит «овладеть правилами». Овладеть правилами – значит «овладеть языком». Просто и понятно. Но дают ли эти тавтологии ключ к пониманию механизмов порождения и особенно восприятия речи?
Гипотеза порождения языка с помощью языковой способности и глубинной грамматики подвергается все более активным атакам. Доктор филологических наук А.А. Леонтьев пишет: «...Большая часть описаний отдельных языков по методу Хомского и его школы свелась к простому переписыванию ранее полученных данных о том или ином языке на новый лад. Оказалось, что для того чтобы опубликовать статью с описанием, допустим, фонологии какого-то языка, «по Хомскому», совершенно не обязательно [...] владеть этим языком». Что же касается способности глубинной грамматики порождать тексты, то «... эта возможность осталась чисто теоретической. Даже попытки приложить модель Хомского к обучению иностранным языкам в целом провалились, не говоря уже об использовании ее для автоматического синтеза и анализа речи или машинного перевода».
Американские лингвисты Р. Кэмпбел и Р. Уэлс указывают, что суть дела не в грамматической строгости, а в умении строить словесные конструкции соответственно контексту, соответственно обстоятельствам.
Вот две фразы: «Крестьянка продала корову, так как она нуждалась в деньгах» и «Крестьянка продала корову, так как она не давала больше молока». Каждый без труда разберется, когда «она» – крестьянка, а когда – корова. На каком же основании? Просто мы много что знаем. Мы знаем, что деньги нужны человеку, а не корове, что коров содержат ради молока, что... Короче: овладеть языком – значит не просто затвердить сумму правил и набор слов. Нужно гораздо больше. Философ говорит: свободное обращение с языком означает, что мы имеем широкие знания об окружающем мире.
В книге Хьюберта Дрейфуса «Чего не могут вычислительные машины» есть глубокое утверждение: каким бы ни был по сложности компьютер, хоть сегодня, хоть через сто лет, человек будет отличаться от него в главном – в том, что обладает живым, смертным, самодвижущимся телом. Только оно способно прочувствовать, что такое «упасть», «скорость», «высоко», «гора» и тысячи иных вещей, которые в ином случае остаются просто понятиями, определенными с помощью других, столь же мало имеющих отношения к действительности понятий. В поговорке «Сытый голодного не разумеет» все это выражено с предельной четкостью. Что уж говорить о возможности понимания металлическим компьютером телесного человека...
Языковеды подметили, впрочем, что «точность и легкость понимания растут по мере уменьшения словесного состава фразы и увеличения ее бессловесной подпочвы». Бессловесной! Откуда же берутся эти «немые» знания?
Вне всякого сомнения, их порождает опять-таки наше самодвижущееся тело: мы живем и, чтобы жить, обязаны так или иначе функционировать, брать в руки какие-то вещи, изучать их, действовать с их помощью, куда-то ехать, управлять какими-то машинами и так далее. А поскольку человек – животное общественное и в силу этого существовать может только в общении с другими людьми (мы любим уединение, но не выносим одиночества!), приходится ему овладевать также и умением зрительного, бессловесного разговора, сильно зависящего от того социума, в котором воспитывался ребенок и пребывает взрослый.

Рис. 71. В разных культурах и субкультурах один и тот же жест может иметь самые разные значения – от положительного до оскорбительного
Ведь типично американский жест «О’кей», долженствующий показать, что у демонструющего все в порядке, во Франции означает «ноль», в Японии – «деньги», а странах Средиземноморья так объявляют о своей «нестандартной направленности» гомосексуалисты.
В 170-страничной книге Аллана Пиза «Язык жестов» приведены многие десятки «высказываний тела», от присущей генетически способности отвечать улыбкой на улыбку, хмуриться в печали или чтобы показать неприязнь, до благоприобретенных и призванных продемонстрировать либо откровенность, либо дружелюбие, либо превосходство.
А профессор Калифорнийского университета Пол Экман, известный своими иследованиями психологии лжи, обнаружил, что, помимо общеизвестных мимических движений, лицевым мышцам присущи микродвижения.

Рис. 72. Выражение лица – это безмолвье слова, обращенные к собеседнику
Они длятся не более четверти секунды и выражают то, что человек хочет скрыть, – иными словами, обнажают его ложь (не имеет значения, во злобу ли эта ложь или во спасение): он бессловесно «проговаривается».
Однако тренированный наблюдатель способен заметить эти «проговорки» и сделать определенный вывод: непонятно, по каким причинам, но собеседник пытается что-то скрыть («ложью вообще» Экман называет именно стремление к утаиванию).
Микродвижения особенно хорошо заметны, когда медленно прокручивается снятый во время беседы видеофильм.
Практическая польза исследований профессора подтверждена тем, что его методика выявления лжи принята на вооружение Госдепартаментом США и другими, не менее серьезными ведомствами.
Однако эта интереснейшая тема весьма далеко уводит нас от предмета основного разговора. Вернемся же к обучению и накоплению знаний.
Порой делают вывод, будто любое накопление знаний связано непременно и только с физической деятельностью. Например, Линдсей и Норман пишут:
«Действие – основа первоначальных знаний, получаемых ребенком... Так, его представление о собаке может быть основано (курсив мой – В.Д.) на осязательных ощущениях, которые дает ее шкура, и на восприятии забавных звуков, которые издает собака, если ее ущипнуть... До усвоения языка структуры восприятия и узнавания могут строиться лишь на основе действий (курсив мой – В.Д.), имеющихся в опыте ребенка».
Последняя фраза – пример фетишизации языка, фетишизации мышечного действия. Чего только стоит слово «лишь»! Конечно, если речь идет о слепом или слепоглухонемом ребенке, авторы правы. Но у зрячего младенца самые первые, самые непосредственные впечатления о предметах складываются все-таки на основе зрения!
Наука давно уже продемонстрировала несостоятельность рассуждений взрослых о «сумбуре», который-де свойствен зрению новорожденного. И если говорить о собаке, то сначала ребенок видит ее (порой на картинке или в виде игрушки), и только потом в его мозгу возникает связь между зрительным образом собаки и ощущением от ее шерсти. Слов нет, ребенок никогда не узнает, какова шерсть на ощупь, если не будет щупать ее, но для того чтобы действие было осмысленным (хотя бы удовлетворяющим любопытство), оно должно чем-то направляться, и это «чем-то» – прежде всего зрение.
Именно зрение расставляет в определенном порядке множество ощущений, получаемых живым существом, показывает их взаимосвязи. Благодаря зрению части предмета получают свое значение как элементы целого, а сам предмет соотносится с фоном, то есть находится в окружении других предметов.В итоге благодаря фону все предметы и их зрительные образы приобретают для человека личностный смысл, присущий той или иной ситуации: одно дело увидеть пистолет в витрине музея и совсем иное – в руке бандита...
А что же язык? Еще в 1864 г. Хьюлинг Джексон впервые высказал мысль о том, что именно зрение служит учителем языка, а не наоборот. Он полагал, что человек бессознательно оперирует образами, которые потом превращаются им в речь.
Действительно, когда слепоглухонемых детей учат пальцевой азбуке, они ощупывают предметы и скульптуры, в результате чего формируют свои, нам малопонятные образы внешнего мира. Но, несмотря на это, мир таких детей существенно ограничен. Он ущербен именно из-за отсутствия зрительных картин, сколь бы широко ни умели они пользоваться словом.
Вот свидетельство – книга «Как я воспринимаю, представляю и понимаю окружающий мир», написанная слепоглухонемой женщиной, кандидатом наук Ольгой Ивановной Скороходовой:
«Когда я бываю в музеях, и тот, кто меня сопровождает, хочет пересказать мне изображение на какой-либо картине, я слушаю с интересом, но не всегда представляю картину такой, какова она в действительности.
Если на картине изображены предметы, которые я раньше осматривала* (например, люди, животные, деревья, тропинки, знакомые мне птицы), тогда и составляю приблизительное представление о картине. Если же на картине изображается, например, солнечный восход или закат, различные пейзажи или бушующее море с погибающим пароходом, тогда я представляю совершенно гладкую поверхность полотна картины, к которой прикасаюсь руками, а солнце или море представляются мне отдельно, независимо от картины, и такими, какими я их воспринимаю в природе: солнце согревает меня своими лучами, а море плещется у моих ног, обдавая меня каскадами брызг; мне чудится даже специфический запах моря.
* То есть ощупывала. – В.Д.
Уходя из музея, я могу вспомнить о картинах, и мне они представляются в таком же размере, в каком я их воспринимала: представляется стекло, если картина была под стеклом, представляется рама – гладкая или с инкрустациями, но не пейзажи, т.е. не красивые виды; мне вспоминается только содержание, только смысл описания да еще тень чего-то неясного... Но поскольку я пользуюсь языком зрячих и слышащих людей, поскольку я читаю художественную литературу, то вполне могла бы рассказать – и, вероятно, не хуже зрячих, – о какой-то картине <...> тем же языком, теми же фразами, что и видящие и слышащие люди. Слушающий меня человек, наверное, не поверил бы, что я никогда не видела данную картину глазами. Однако я в своих работах пишу только правду и не хочу приписывать себе то, чего я не видела и чего не представляю».
Совершенно иначе выглядят образы окружающего мира у человека, не слепоглухонемого от рождения, а ослепшего в зрелом возрасте:
«Я очень хорошо помню краски. Всегда спрашиваю об оттенках – светлая краска или темная, блестящая или пастельная. Прошу, чтобы сравнили мне цвет с каким-нибудь предметом, который я помню с того времени, когда видела. И воображаемый цвет как бы возникает где-то в середине головы. А если напрячься, он переносится как бы под веки. У Пруса я читала, как для слепой девушки вишня была просто круглой и гладкой. Для меня она осталась темно-красной, блестящей. Если я в комнате, я вижу мебель, о которой знаю, что она здесь стоит. Вижу окно, дверь, сидящих людей... Когда хожу на прогулку и спутник рассказывает мне о том, что вокруг, я представляю себе то, о чем он рассказывает, но только не сразу, а спустя несколько времени. Я могу представить себе красивый пейзаж или какую-нибудь вещь, но восхититься сразу же скульптурой не могу: ведь я ощупываю ее, поэтому вижу только фрагменты. Мне нужно сложить их вместе. А насколько это «вместе» похоже на действительную скульптуру, сказать мне трудно. Но вот – знаю, что такое перспектива. Знаю, что стена деревьев становится в перспективе все меньше, а деревья чем дальше, тем как бы больше прижимаются друг к другу. Это я могу себе вообразить. Я могу это сделать, но только если прикажу себе, и тогда воображаю. А если хочу представить то, что когда-то видела по-настоящему, глазами, – это не нужно складывать из кусочков. Я вижу это где-то в глубине головы. А потом переношу все это под веки».
Что зрительные образы и их словесные обозначения прочно связаны, говорит такой факт. Когда глухонемых детей обучают говорить с помощью пальцевой азбуки, они усваивают только те значения слов, которые воспринимали наглядно. Затвердив, что «поднять» – значит нагнуться и взять что-то с пола, они не понимают выражений «поднять руку», «поднялась температура»; если слово «ручка» запоминалось как «ручка для письма», вызывают недоумение сочетания «ручка кресла», «ручка девочки», «ручка двери». Да и мы с вами, если никогда не слышали, что моряки называют скамейку для гребцов в шлюпке и отмель вдали от берега «банкой», сочтем бессмысленными выражения «Сев на банку, Вася взял в руки весла» и «Корабль угодил на банку»: полисемия, как называют лингвисты это свойство слов, – штука коварная. Помочь способны либо картинка, нарисованная художником, либо описание, то есть картинка в словах.
И человек рассказывает: «Вот значит... сначала мы, значит... туда... потом потихоньку-потихоньку... а они уже там, и вот вдруг... ах!! и потом ничего!... а потом ой, ой, ой, как было... а потом... вот... немножко-немножко... а потом... лучше-лучше... и вот видите, как сейчас?!» Непонятно? Наверное, вы все поймете, если узнаете, что это боец рассказывает, как его ранило, как его лечили. У него поражена левая височная область мозга. Клинически характерный признак – выпадение существительных. Человек не может назвать, то есть обозначить абстрактным знаком ни одного предмета.
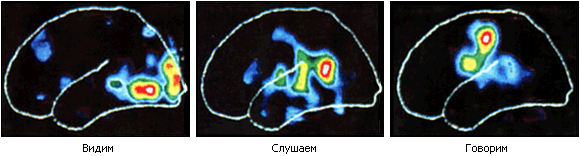
Рис. 73. Прибор фиксирует, какие области коры головного мозга участвуют в актах зрения, слуха и речи. Чем ярче цвет, тем активнее нейроны
А мы знаем, что именно левая нижневисочная кора формирует зрительно-абстрактные образы предметов, причем эти абстракции низшего ранга объединяются словами в более высокие, так что образы «лошадь бегущая» и «лошадь стоящая» превращаются в словесно-зрительную абстракцию «лошадь», объединяющую всех возможных лошадей в любых положениях, видимых с любых точек.
Для расстройств в левой височной области типичен и такой симптом, как «незрительность» слова, потеря связи между звучащим или написанным словом и зрительным образом (хотя сами предметы человек видит, может отличить один от другого: то есть конкретные, сиюминутные представления не задеты). Больному показывают карточку, на которой написано слово «нос», громко читают это слово, и просят показать этот предмет, а в ответ слышат: «Нош... нож... ноз... ношт... Не знаю, что это слово означает...» Потеря зрительных абстракций в левом полушарии делает невозможным представление в правом конкретного образа – того самого, который человек способен вообразить себе зрительно.
Характерно, что при более легких поражениях такие больные теряют способность к разделению понятий в больших областях, называемых семантическими полями. У лингвистов так обозначаются гнезда слов, объединенных каким-то весьма общим, весьма абстрактным признаком. В семантическое поле «домашние животные» входят слова и образы «кошка», «собака», «корова», «коза» и так далее. В зрительной системе эти образы разделяются с помощью сложных признаков – выход в ту или иную область многомерного пространства этих признаков идет методом дихотомического деления, то есть «по дереву». Если «дерево» повреждено, человек не отличит находящихся на соседних «ветвях» собаку и кошку. И действительно, больной говорит «кошка» на картинку, где изображена собака, вместо слова «скрипка» у него всплывает «маэстро», вместо «концерт» – «спектакль»...
Словесное противопоставление лингвисты называют парадигмой (греческое παράδειγμα значит «пример», «образец»). По парадигматическому, противопоставительному принципу построены все семантические поля: есть животные и (или «а не») растения, домашние животные и дикие, собаки и кошки, таксы и терьеры, большие – маленькие, злые – добрые, красивые – безобразные... Парадигматика языка удивительно соответствует схеме работы зрительного аппарата. В обоих случаях обнаруживается дихотомическое деление, принцип «дерева».
И если согласиться с Джексоном, признать зрение первичным, а речь вторичным образованием, становится ясно, в чем причина сходства: оно отражает одинаковую, судя по всему, схему строения нейронного аппарата левой височной коры и для видимого образа, и для звукового.
Вот еще одна особенность, свидетельствующая о работе по принципу «дерева» в многомерном пространстве представлений. Для речи свойственны звонкие и глухие согласные, твердые и мягкие звуки, краткие и длинные, и вся эта парадигматика разрушается при поражениях левой височной области. Человек не различает слов «бочка» и «почка», «дочка» и «точка», «пыл» и «пил», а когда в наушниках звучит попеременно «да – та, да – та, да – та...», он повторяет: «да – да, да – да». И говорит, что в звуках чувствуется какое-то отличие, но только непонятно какое.
Поэтому при лечении таких больных врачи стараются воздействовать в первую очередь на зрительную систему. Если только удается восстановить рисование предмета, то, как правило, восстанавливается и слово, казавшееся навсегда забытым.
Но – и это чрезвычайно важно для дальнейшего! – при поражении височных областей сохраняются пространственные характеристики образов, а также расположение событий во времени (что можно представить как пространственное – по оси времени). Вспомните рассказ раненого: каждый способен в его бессвязной речи восстановить существительные, им невольно опущенные, и понять последовательность событий, восстановить ситуации.
Ситуациями же оперирует левая заднетеменная кора, она отражает расположение предметов в той модели внешнего мира, которую каждый человек носит в себе, где помещается все – – от атома до Вселенной.
И поэтому поражения левой заднетеменной области имеют совершенно специфический вид, диаметрально противоположный расстройствам левой нижневисочной коры: остаются слова, но теряются связи между ними.
Больному читают фразу: «На ветке дерева гнездо птицы». Он отвечает: «Вот – что это... тут все: и ветки... и дерево... и гнездо... и птицы... А вот как они друг с другом связаны?» Спрашивают, понятны ли словосочетания «брат отца» и «отец брата», – слышат: «Вот... брат... и отец... А как вместе – не могу схватить... Отец брата... Брат отца... и тут отец, и тут отец... И тут брат, и тут брат... не знаю, в чем разница». Просят нарисовать план комнаты, в которой стоит его кровать, – эта простая процедура, с которой шутя справляется здоровый человек, оказывается для больного безнадежно трудной, а уж про географическую карту и говорить не приходится.
Что же случилось? В любом языке есть предлоги, падежи, разного рода частицы (порой они «вклеиваются» в слово, как в турецком языке), порядок слов и иные операторы, задача которых в том, чтобы продемонстрировать слушающему пространственные соотношения между объектами, соотнесенность во времени.
«Ветка дерева» означает, что она принадлежит данному дереву, «на ветке» – что гнездо находится именно на этой ветке, «гнездо птицы» – что птица его построила или заняла... Для нас с вами само собой разумеется, что правое отличается от левого (впрочем, искусством без запинки поворачиваться «Напра-во!» многие овладевают только в армии), мы прекрасно понимаем значение операторов «над», «под», «сзади», не испытываем недоумения при виде словосочетаний «одолжил брату сто рублей» или «Катя светлее Сони». Увы, все это для больного с поражением левой теменной области недоступно: у него разрушены абстрактные пространственные операторы...
В то же самое время левая нижневисочная область по-прежнему справляется с абстрагированием образов предметов, работает система «поиска по дереву признаков». Отсюда и никаких сбоев в назывании изображений на картинках, демонстрируемых врачом. Но отчетливо понимая, что такое круг и квадрат, безошибочно отыскивая их на рисунках, страдающий расстройством теменной области человек не в состоянии ответить, находится круг над или под квадратом: признаки-операторы разрушены. Пропадает возможность установить время по часам, потому что не осознается пространственное расположение стрелок. Стали одинаковыми числа 1012 и 2110, так как исчезло понятие разряда, то есть места в ряду.
Сложную грамматическую конструкцию, требующую анализа порядка вещей в пространстве (например, «Топор, которым дровосек срубил дерево, которое росло в лесу, заржавел»), больной не осознаёт, но простое предложение с теми же словами «Дровосек срубил дерево» понимает прекрасно. Скажут ему: «Дайте карандаш и ручку», – проблем нет, а вот просьба «Покажите карандашом ручку» оказывается невыполнимой.
А при поражениях теменной коры правого полушария исчезает – из-за потери механизма оценки пространственных отношений между подобразами – возможность «склеивания» из зрительных фрагментов полноценного образа того, что видит глаз. Сами фрагменты человеку видны, а формирование сложных признаков в левом полушарии оказывается ущербным (описание по Меллину, как мы помним, требует «перекачать» в левое полушарие конкретный образ из правого), нет прохода по «дереву признаков» и речевой ответ выглядит случайным, гадательным. «Это гусь», – говорит больной, увидев на картинке, как акробат стоит вверх ногами. Торчащие накрест лыжи превращаются в ножницы, а висящее на длинной ножке яблоко – в кастрюлю.
Речь как таковая не нарушена, однако восприятие страдает грубыми отклонениями от нормы: попытки зрительно представить себе что-либо оканчиваются для пациента неудачей. «Больная, хорошо объяснявшая на словах, как пройти из палаты в лабораторию, не могла запомнить коридор, по которому много раз ходила... Она узнавала комнату не по конкретному пространственному образу – определенному расположению предметов, а лишь по отдельным словесно описываемым признакам (например, лабораторию – по красной папке в стеклянном шкафу, свою палату – по номеру и т.д.)», – фрагменты не сцеплялись в образ.
Ну а при нарушениях в правой нижневисочной коре, как уже было сказано, прекращается (из-за отсутствия возможности опознавать фрагменты) формирование целостного конкретного зрительного образа. Возникает предметная агнозия. Человек с таким поражением мозга переходит, незаметно для себя, на опознание мира с помощью канала пространственных отношений. И, понятное дело, допускает грубые ошибки. Но поскольку расстройство такого рода возникает нередко в пожилом возрасте, он постепенно, в течение многих лет, приспосабливается к своему необычному восприятию столь тонко, что даже специалистам порой кажется симулянтом.
Мысли о том, что правое полушарие воспринимает мир преимущественно конкретно, а левое – абстрактно, выдвигались уже бессчетное число раз. Однако эти соображения высказывались в обобщенном, как правило, виде. Гипотеза Глезера о роли заднетеменной и нижневисочной областей каждого полушария, об их взаимосвязи – новый шаг в познании работы мозга.
А самое главное, эта гипотеза впервые демонстрирует, что связь между зрением и речью отражает не случайное совпадение функций, а глубокое единство этих двух мозговых механизмов.
И, как любая хорошо обоснованная гипотеза, она открывает перед исследователями новые пути экспериментов, объясняет непонятные прежде факты.
Было время, его отголоски встречаются порою и сейчас, когда зрение и речь противопоставляли друг другу. Зрение мыслилось как нечто наивное, неспособное проникать в глубокие сущности вещей (вспомним хотя бы мнение Гумбольдта), речи же придавалось ни с чем не сравнимое превосходство.
Сегодня ученые не столь категоричны. Они отдают должное словесно-логическому мышлению, но не пренебрегают и наглядно-действенным, и образным (наглядно-образным), а также теоретическим и практическим, интуитивным и аналитическим, реалистическим (направленным на внешний мир) и аутистическим (направленным на собственную личность), продуктивным и репродуктивным, непроизвольным и произвольным...
Нас с вами интересует наглядно-образное мышление и его соотношение со словесно-логическим. И вот что говорят эксперименты: если вам зададут задачу «Алиса выше, чем Мери, Элси ниже, чем Мери, так выше ли Элси, чем Мери?» и предложат решить ее в уме, вы выстроите девочек в ряд и приметесь считывать ответ с этой возникшей перед мысленным взором картинки.
Еще показательнее отношение к зрительным образам таких ученых, которые, казалось бы, самим предметом своей специальности всецело направлены на словеснознаковую (в смысле математических знаков) работу. Я имею в виду физиков-теоретиков. Они изучают мир, который превратился в набор абстракций, не постигаемых человеческими чувствами. Академик Владимир Александрович Фок еще в 1936 г писал: «...Отсутствие наглядности не раз ставилось в упрек новой теории (квантовой механике – В.Д.). Но по существу дела так должно быть. Ведь мы называем наглядным то, что соответствует нашим представлениям, полученным из повседневного опыта; а наш повседневный опыт, собственно говоря, относится к предметам не слишком малым, таким, которые можно в руки взять... Ясно, что, если мы перейдем к предметам более мелкого масштаба или, наконец, к атомному миру, мы должны быть готовы к тому, что встретим там законы другие, отличные от законов, справедливых в области другого масштаба».
Отказ от принципа наглядности, переход на не-наглядные математические абстракции казался неоспоримым. В самом деле, как представить себе мир элементарных частиц, каждая из которых есть одновременно и частица и волна?
Однако, вопреки ожиданиям, физики ищут и создают наглядные, чуть ли не потрогать руками, зрительные модели не-наглядных явлений и объектов. Без этого, как выяснилось, очень трудно добиться взаимопонимания между специалистами, даже если их интеллекты равны, что уж говорить о студентах. Когда великий шотландец Джеймс Клерк Максвелл (его ставят в один ряд с Ньютоном и Эйнштейном) создавал свою теорию электромагнитного поля, он старался сделать ее более наглядной с помощью такой аналогии: заполнял всю Вселенную сцепленными друг с другом шестеренками. Это объясняло, как может в «пустоте» передаваться взаимодействие между телами. Грубая, но наглядная модель помогала перестройке мышления для восприятия новых, непривычных сущностей.
Модели современной физики отличаются от моделей старой, «механической» физики тем, пишет советский физик и философ академик Моисей Александрович Марков, что прежние модели были уменьшенной копией действительности, были «работающими моделями». Нынешние же наглядные модели – они особые, «неработающие», но тем не менее делающие свое дело. Они играют роль иллюстрации к какой-то одной стороне сложного явления, именуемого микромиром, ибо из наших макроматериалов принципиально невозможно построить микромирные, не ощущаемые руками и зрением, вещи и явления. Поэтому физик создает несколько моделей, каждая для своей стороны микромирной целостности, а потом мысленно сливает их воедино.
Вот почему, если речь справедливо называют инструментом абстрактного мышления, правомерно называть зрение «предметным, конкретным мышлением», постулирует Глезер в своей книге «Зрение и мышление», идеями которой я во многом пользуюсь.
Крайне интересные параллели существуют между восприятием какой-либо сцены с помощью зрения и восприятием словесного сообщения с помощью слуха. В мозгу для зрительного образа оказывается чрезвычайно мало вариантов пространственных отношений между подобразами (то, что мы хотя и редко, но ошибаемся, говорит о некотором разнообразии вариантов). Точно так же для слушающего существует лишь ничтожное число вариантов увязки последовательности слов с грамматикой (без которой слушающий порой не в состоянии раскрыть смысл фразы) и общим контекстом речи, тем более что нужно предполагать те или иные намерения говорящего (то есть представлять его картину потребного внешнего мира, его «модель будущего»).
Зато совсем иначе (и тоже параллельно!) выглядят как зрительное воображение сцены, так и попытка написать или сказать фразу. Представляя в сознании какую-то конструируемую зрительно ситуацию, мы вправе отбирать любые детали, в том числе совершенно фантастические, лишь бы они отвечали нашим конечным намерениям. И совершенно так же при построении фразы имеем чрезвычайно широкое поле выбора грамматических средств и лексики. По этому поводу Арнхейм пишет: «Поскольку материал писателя – это не подлинный объект, воспринимаемый органами чувств, а лишь наименование этого понятия, он может сочетать в своих образах элементы, заимствованные из разных источников. Ему не нужно заботиться о том, чтобы созданные им сочетания были возможны или хотя бы вообразимы в материальном мире». Действительно:
| Жил старик со своею старухой, У самого синего моря... Как взмолится золотая рыбка, Голосом молвит человечьим... В палатах видит он свою старуху: За столом сидит она царицей... |
Все слова абсолютно реальны. А результат? Прихотливая комбинаторика – в границах конечного замысла, возбуждаемых зрительных образов и словесных ассоциаций, – позволяет создавать произведения, именуемые сказками.
И тут хочется высказать гипотезу: не связаны ли мышление с помощью зрительных образов и мышление с помощью «внутренней речи»? Понятие об этой речи ввел в тридцатые годы Лев Семенович Выготский, человек, которого многие современные нам ученые называют «Моцартом в психологии». Слово «речь», употребленное им, давало кое-кому повод утверждать, будто «внутренняя речь» – это нечто вроде беззвучного проговаривания, что это «речь минус звук».
Против таких утверждений выступал, в частности, один из ближайших друзей и последователей Выготского, А.Р. Лурия. Он обращал внимание лингвистов и психологов на то, что такая речь отличается «как от мысли, так и от внешней речи». Ведь слова, которые люди произносят во время эксперимента, иллюстрируя ход своих рассуждений, существенно отличаются от нормального говорения. Человек не произносит во время решения шахматной задачи: «Я вижу, что слон c3 может идти на поле b6, а после этого...» Нет, магнитофонная запись выглядит совсем по-иному: «Ага! А если мы слоном пойдем на... на b6, так, слон на b6... отлично, поле b7 перекрыто... собственно, мат-то нечем... и давать... мат-то... нечем... и давать... Ага! А если такую штуку провести... если такую штуку провести...»
Что отражают эти слова? Бесспорно, процесс мышления. Но они вовсе не равны «внутренней речи», ибо произнесены и тем самым превратились во внешнюю речь, пусть и «грамматически аморфную», как называл ее Лурия. Где же мысль, куда она спряталась, чтт именно записал магнитофон?
Выготский подчеркивал очень важный момент: «Сама мысль рождается не из другой мысли (курсив мой – В.Д.), а из мотивирующей сферы нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции». То есть мысль есть детище деятельности, результат «столкновения» с действительностью. Эту действительность человек переделывает, преобразует в соответствии со своими потребностями, побуждениями, интересами.
По представлениям Н.А. Бернштейна, в мозгу человека есть две модели: одна показывает действительность, а вторая демонстрирует «потребное будущее», то есть, грубо говоря, то, что хочется человеку. Эта действительность, как уже много раз отмечалось, фиксируется в мозгу на 90 процентов благодаря сведениям, которые доставляет зрительный аппарат. А потребное будущее есть комбинация сведений, оно уже построено благодаря желаниям и размышлениям.
Чем занимается шахматист, мысленно переставляя фигуры шахматной задачи? Он пытается преобразовать зрительный образ, сформированный при рассматривании задачи (реальность), в другой образ, столь же зрительный, но обладающий иным качеством: матовой ситуацией для черного короля (потребное будущее). Потребность возбуждает мозг, заставляет заниматься мыслительной работой. Мысленные преобразования шахматной позиции (как бы то и дело вспыхивающие новые и новые картинки, пусть даже не очень четко осознаваемые) выражаются в виде «грамматически аморфной» речи. Мышление идет в образах, и магнитофон записывает процесс преобразования зрительной модели настоящего в зрительную же модель потребного будущего!
Шахматисту нет нужды в связных высказываниях, его слова – это как бы флажки, которые втыкает в карту военных действий стратег, чтобы зафиксировать некоторые центральные пункты и избавить мозг от ненужных усилий. (Кстати, об усилиях: генетик и психолог Френсис Гальтон так ответил на вопрос, как движется его мысль: «Часто случается, что после того как я долго работал и достиг результатов, которые для меня совершенно ясны и удовлетворительны и которые я хочу выразить словами, я должен настраивать себя в совершенно ином интеллектуальном плане... Это одна из наибольших неприятностей в моей жизни».)
То, что человек очень часто мыслит зрительными (то есть основанными на зрительных образах) ситуациями, лишь впоследствии оформляя их в слова, объясняет многие парадоксы работы переводчиков и ту серьезную неудачу, которая постигла кибернетиков, до сих пор искренне верующих, что возможно создание «идеальных» программ для перевода с одного языка на другой. Слов нет, переводческие программы существуют и даже переводят «тысячи слов с точностью 92%», как об этом писал журнал английских деловых кругов «Интернешнл менеджмент» еще в 1984 году.
Увы, после действия такой программы, сколь бы совершенной она ни была, текст нуждается в серьезной «полировке». Приходится заменять или ставить в нужную грамматическую форму примерно каждое пятое слово. И это не в художественных текстах, а в научных, с их крайне ограниченными тема
