Из уральских сказов о Ленине 1 страница
Павел Петрович Бажов Уральские сказы – II
Серия: Собрание сочинений – 2
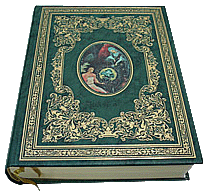
NVE
«Собрание сочинений в трех томах. Том второй»: Государственное Издательство художественной литературы; Москва; 1952
Аннотация
Второй том сочинений П. П. Бажова содержит сказы писателя, в большинстве своем написанные в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы. Открывается том циклом сказов, посвященных великим вождям народов – Ленину и Сталину. Затем следуют сказы о русских мастерах-оружейниках, сталеварах, чеканщиках, литейщиках. Тема новаторства соединена здесь с темой патриотической гордости русского рабочего, прославившего свою родину трудовыми подвигами Рассказчик, как и в сказах первого тома, – опытный, бывалый горщик. Но раньше в этой роли выступал «дедушка Слышко» – «заводской старик», «изробившийся» на барских рудниках и приисках, видавший еще крепостное право. Во многих сказах второго тома рассказчиком является уральский горщик нового поколения. Это участник гражданской войны, с оружием в руках боровшийся за советскую власть, а позднее строивший социалистическое общество. Рассказывая о прошлом Урала, он говорит о великих изменениях, которые произошли в жизни трудового народа после Октябрьской революции Подчас в сказах слышится голос самого автора, от лица которого и ведется рассказ
Орлиное перо
В деревне Сарапулке это началось. В недавних годах. Вскорости после гражданской войны. Деревенский народ в те годы не больно грамотен был. Ну, все-таки каждый, кто за советскую власть, придумывал, чем бы ей пособить.
В Сарапулке, известно, от дедов-прадедов привычка осталась в камешках разбираться. В междупарье, али еще когда свободное время окажется, старики непременно этими камешками занимались. Про это вот вспомнили и тоже артелку устроили. Стали графит добывать. Вроде и ладно пошло. На тысячи пудов добычу считали, только вскоре забросили. Какая тому причина: то ли графит плохой, то ли цена неподходящая, этого растолковать не умею. Бросили и бросили, за другое принялись – на Адуй наметились.
Адуйское место всякому здешнему хоть маленько ведомо. Там главная приманка – аквамаринчики да аметистишки. Ну и другое попадается. Кто-то из артелки похвастал: «Знаю в старой яме щелку с большой надеждой». Артельщики на это и поддались. Сперва у них гладко пошло. Два ли, три занорыша нашли. Решеточных! Решетками камень считали. На их удачу глядя, и другие из Сарапулки на Адуй кинулись: нельзя ли, дескать, и нам к тому припаиться. Яма большая, – не запретишь. Тут, видно, и вышла не то фальшь, не то оплошка. Артелка, которая сперва старалась, жилку потеряла. Это с камешками часто случается. Искали искали, не нашли. Что делать? А в Березовске в ту пору жил горщик один. В больших уж годах, а на славе держался. Артельщики к нему и приехали. Обсказали, в каком месте старались, и просят:
– Сделай милость, Кондрат Маркелыч, поищи жилку!
Угощенье, понятно, поставили, словами старика всяко задабривают, на обещанья не скупятся. Тут еще березовские старатели подошли, выхваляют своего горщика:
– У нас Маркелыч на эти штуки дошлый. По всей округе такого не найдешь!
Приезжие, конечно, и сами это знают, только помалкивают. Им наруку такая похвальба: не расшевелит ли она старика. Старик все-таки наотрез отказывается:
– Знаю я эти пережимы на Адуе! Глаз у меня теперь их не возьмет.
Артельщики свой порядок ведут. Угощают старика да наговаривают: одна надежда на тебя. Коли тебе не в силу, к кому пойти? Старику лестно такое слушать, да и стаканчиками зарядился. Запошевеливал плечами-то, сам похваляться стал: это нашел, другое нашел, там место открыл, там показал. Одним словом, дотолкали старика. Разгорячился, по столу стукнул:
– Не гляди, что старый, я еще покажу, как жилки искать!
Артельщикам того и надо.
– Покажи, Кондрат Маркелыч, покажи, а мы в долгу не останемся. От первого занорыша половина в твою пользу.
Кондрат от этого в отпор.
– Не из-за этого стараюсь! Желаю доказать, какие горщики бывают, ежели с понятием который.
Правильно слово сказано: пьяный похвалился, а трезвому отвечать. Пришлось Маркелычу на Адуй итти. Расспросил на месте, как жилка шла, стал сам постукивать да смекать, где потерю искать, а удачи нет. Артельщики, которые старика в это дело втравили, видят-толку нет, живо от работы отстали. Рассудили по-своему:
– Коли Кондрат найти не может, так нечего и время терять.
Другие старатели, которые около той же ямы колотились, тоже один за другим отставать стали. Да и время-то подошло покосное. Всякому охота впору сенца поставить. На Адуйских-то ямах людей, как корова языком слизнула: никого не видно. Один Кондрат у ямы бьется. Старик, видишь, самондравный. Сперва-то он для артельщиков старался, а как увидел, что камень упирается, не хочет себя показать, старик в азарт вошел:
– Добьюсь своего! Добьюсь!
Не одну неделю тут старался в одиночку. Из сил выбиваться стал, а толку не видит. Давно бы отстать надо, а ему это зазорно. Ну, как! Первый по нашим местам горщик не мог жилку найти! Куда годится? Люди засмеют. Кондрат тогда и придумал:
– Не попытать ли по старинке?
В старину, сказывают, места искали рудознатной лозой да притягательной стрелой. Лоза для всякой руды шла, а притягательная стрела – для камешков. Кондрат про это сызмала слыхал, да не больно к тому приверженность оказывал, – за пустяк считал. Иной раз и посмеивался, а тут решил попробовать.
– Коли не выйдет, больше тут и топтаться не стану.
А правило такое было. Надо наконечник стрелы сперва магнит – камнем потереть, потом поисковым. Тем, значит, на который охотишься. Слова какие-то требовалось сказать. Эту заговоренную стрелу пускали из простого лучка, только надо было глаза зажмурить и трижды повернуться перед тем, как стрелу пустить.
Кондрат знал все эти слова и правила, только ему вроде стыдно показалось этим заниматься, он и придумал пристроить к этому своего не то внучонка, не то правнучка. Не поленился, сходил домой. Там, конечно, виду не показал, что по работе незадача. Какие из березовских старателей подходили с разговором, всех обнадеживал: – на недельку еще сходить придется.
Сходил, как полагается, в баню, попарился, полежал денек дома, а как стал собираться, говорит внучонку:
– Пойдешь, Мишунька, со мной камешки искать?
Мальчонку, понятно, лестно с дедушком пойти.
– Пойду, – отвечает. Вот и привел Кондрат своего внучонка на Адуй. Сделал ему лучок, стрелу-по всем старинным правилам изготовил, велел Мишуньке зажмуриться, покрутиться и стрелять, куда придется. Мальчонка рад стараться. Все исполнил, как требовалось. До трех раз стрелял. Только видит Кондрат – ничего путного не выходит. Первый раз стрела в пенек угодила, второй – в траву пала, третий – около камня ткнулась и ниже скатилась. Старик по всем местам поковырялся маленько. Так, для порядка больше, чтоб выполнить все по старинке. Мишунька, понятно, тем лучком да стрелой играть стал. Набегался, наигрался. Дедушко покормил его и спать устроил в балагашке, а самому не до сна. Обидно. На старости лет опозорился. Вышел из балагашка, сидит, раздумывает, нельзя ли еще как попытать. Тут ему и пришло в голову: потому, может, стрела не подействовала, что не той рукой пущена.
– Мальчонка, конечно, несмысленыш. Самый вроде к тому делу подходящий, а все-таки он не искал, потому и показа нет. Придется, видно, самому испробовать.
Заговорил стрелу, приготовил все, как требовалось, зажмурил глаза, покрутился и спустил стрелу. Полетела она не в ту сторону, где яма была, а на тропке оказался какой-то проходящий. Идет налегке. На руке только корзинка корневая, в каких у нас ягоды носят. Подхватил прохожий стрелу, которая близенько от него упала, и говорит с усмешкой:
– Не по годам тебе, дедушка, ребячьей забавой тешиться. Не по годам!
Кондрату неловко, что его за таким делом застали, говорит всердцах:
– Проходи своей дорогой! Тебя не касаемо.
Прохожий смеется.
– Как не касаемо, коли чуть стрелой мне в ногу не угодил.
Подошел к старику, подал стрелу и говорит укорительно, а то со смешком:
– Эх, дед, дед! Много прожил, а присловья не знаешь: то не стрела, коя орлиным пером не оперена.
Маркелычу этот разговор не по нраву. Сердито отвечает:
– Нет по нашим местам такой птицы! Неоткуда и перо брать.
– Неправильно, – говорит, – твое слово. Орлиное перо везде есть, да только искать-то его надо под высоким светом.
Кондрат посомневался:
– Мудришь ты! Над стариком, гляжу, посмеяться надумал, а я ведь в своем деле не хуже людей разумею.
– Какое, – спрашивает, – дело?
Старик тут и распоясался. Всю свою жизнь этому человеку рассказал. Сам себе дивится, а рассказывает. Прохожий сидит на камешке, слушает да подгоняет:
– Так, так, дедушка, а дальше что?
Кончил старик свой рассказ. Прохожий похвалил:
– Честно, дед, поработал. Много полезного добыл, а стрелу зачем пускал?
Кондрат и это не потаил. Прохожий поглядел этак вприщур, да и говорит:
– То-то и есть. Орлиного пера твоей стреле не хватает.
Кондрат тут вовсе рассердился. Обидно показалось. Всю, можно сказать, жизнь выложил, а он с перьями своими! Закричал этак сердито:
– Говорю, нет по нашим местам такой птицы! Не найдешь пера! Глухой ты, что ли?
Прохожий усмехнулся, да и спрашивает:
– Хочешь, покажу?
Кондрат, понятно, не поверил, а все-таки говорит:
– Покажи, коли умеешь, да не шутишь. Прохожий тут достал из корзинки камешек кубастенький. Ростом кулака в два. Сверху и снизу ровнехонько срезано, а с боков обделано на пять граней. В потемках не разберешь, какого цвету камень, а по гладкой шлифовке – орлец. На верхней стороне чуть видны беленькие пятнышки, против каждой грани. Поставил прохожий этот камешек рядом с собой, задел пальцем одно пятнышко, и вдруг их светом накрыло, как большим колоколом. Свет яркий-яркий, с голубым отливом, а что горит – не видно. Световой колокол не больно высок. Так в три либо четыре человечьих роста. В свету мошкары вьется видимо-невидимо, летучие мыши шныряют, а вверху пташки пролетают, и каждая по перышку роняет. Перышки кружатся, на землю падать не торопятся.
– Видишь, – спрашивает, – перья?
– Вижу, – отвечает, – только это вовсе не орлиные.
– Правильно, не орлиные, а больше воробьиные, – говорит прохожий и объясняет; – Это твоя жизнь, дед, показана. Трудился много, а крылышки маленькие, слабые, на таких высоко не подняться. Мошкара глаза забивает, да еще всякая нечисть мешает. А вот гляди, как дальше будет.
Задел опять пальцем которое-то пятнышко, и световой колокол во много раз больше стал. К голубому отливу зеленый примешался. Под ногами будто первый пласт земли сняли, а вверху птицы пролетают. Пониже утки да гуси, повыше журавли, еще выше – лебеди. Каждая птица по перу сбрасывает, и эти перья книзу ровнее летят, потому – вес другой.
Прохожий еще задел пальцем пятнышко, и световой колокол раздался и ввысь взлетел. Свет такой, что глаза слепит. Голубым, зеленым и красным отливает. На земле на две сажени в глубину все видно, а вверху птицы плывут. Каждая в свету перо роняет. Те перья к земле, как стрелы, летят и у самого того места, где камешек поставлен, падают. Прохожий глядит на Кондрата, улыбается светленько и говорит:
– И выше орла, дед, птицы есть, да показать опасаюсь: глаза у тебя не выдержат. А пока попытай свою стрелу!
Подобрал с земли столько-то перьев, живо пристроил, будто век таким делом занимался, и наказывает старику:
– Опускай в то место, где жилку ждешь, а зажмуривать глаза да крутиться не надо.
Кондрат послушался. Полетела стрела, а яма навстречу ей раскрылась. Не то что все каменные жилки-ходочки, а и занорыши видно. Один вовсе большой. Аквамаринов в нем чуть не воз набито, и они как смеются. Старик, понятно, растревожился, побежал поближе посмотреть, а свет и погас. Маркелыч кричит:
– Прохожий, ты где?
А тот отвечает:
– Дальше пошел.
– Куда ты в темень такую? Хитники пообидеть могут. Неровен час, еще отберут у тебя эту штуку! – кричит Маркелыч, а прохожий отвечает:
– Не беспокойся, дед! Эта штука только в моих руках действует да у того, кому сам отдам.
– Ты хоть кто такой? – спрашивает Маркелыч.
А прохожий уж далеко. Едва слышно донеслось:
– У внучонка спроси. Он знает.
Мишунька весь этот ночной случай не проспал. Светом-то его разбудило, он и глядел из балагашка. Как дедушко пришел, Мишунька и говорит:
– А ведь это, дедушко, у тебя был Ленин!
Старик все-таки не удивился.
– Верно, Мишунька, он. Не зря люди сказывают – ходит он по нашим местам. Ходит! Уму-разуму учит. Чтоб не больно гордились своими крылышками, а к высокому свету тянулись. К орлиному, значит, перу.[1]
Солнечный камень
Против нашей Ильменской каменной кладовухи, конечно, по всей земле места не найдешь. Тут и спорить нечего, потому – на всяких языках про это записано: в Ильменских горах камни со всего света лежат.
Такое место, понятно, мимо ленинского глазу никак пройти не могло. В 20-м году Владимир Ильич самоличным декретом объявил здешние места заповедными. Чтоб, значит, промышленников и хитников всяких по загривку, а сберегать эти горы для научности, на предбудущие времена.
Дело будто простое. Известно, ленинский глаз не то что по земле, под землей видел. Ну, и эти горы предусмотрел. Только наши старики-горщики все-таки этому не совсем верят. Не может, дескать, так быть. Война тогда на полную силу шла. Товарищу Сталину с фронта на фронт поспешать приходилось, а тут вдруг камешки выплыли. Без случая это дело не прошло. И по-своему рассказывают так.
Жили два артельных брата: Максим Вахоня да Садык Узеев, по прозвищу Сандугач. Один, значит, русский, другой из башкирцев, а дело у них одно – с малых лет по приискам да рудникам колотились и всегда вместе. Большая, сказывают, меж ними дружба велась, на удивленье людям. А сами друг на дружку нисколько не походили. Вахоня мужик тяжелый, борода до пупа, плечи ровно с подставышем, кулак – глядеть страшно, нога медвежья, и разговор густой, буторовый. Потихоньку загудит, и то мух в сторону на полсажени относит, а характеру мягкого. По пьяному делу, когда какой заноза раздразнит, так только пригрозит:
– Отойди, парень, от греха! Как бы я тебя ненароком не стукнул.
Садык ростом не вышел, из себя тончавый, вместо бороденки семь волосков, и те не на месте, а жилу имел крепкую. Забойщик, можно сказать, тоже первой статьи. Бывает ведь так-то. Ровно и поглядеть не на кого, а в работе податен. Характера был веселого. Попеть, и поплясать, и на курае подудеть большой охотник. Недаром ему прозвище дали Сандугач, по-нашему соловей.
Вот эти Максим Вахоня да Садык Сандугач и сошлись в житье на одной тропе. Не все, конечно, на казну да хозяев добывали. Бывало и сам-друг пески перелопачивали, – свою долю искали. Случалось и находили, да в карманах не залежалось. Известно, старательскому счастью одна дорога была показана. Прогуляют все, как полагается, и опять на работу, только куда-нибудь на новое место: там, может, веселее.
Оба бессемейные. Что им на одном месте сидеть! Собрали котомки, инструмент прихватили – и айда.
Вахоня гудит:
– Пойдем, поглядим, в коем месте люди хорошо живут.
Садык веселенько шагает да посмеивается:
– Шагай, Максимка, шагай! Новым мистам залотой писок сама рукам липнет. Дарогой каминь барадам скачит. Один раз твой барада полпуда станит.
– У тебя, небось, ни один не задержится, – отшучивался Вахоня и лешачиным обычаем гогочет: хо-хо-хо!
Так вот и жили два артельных брата. Хлебнули сладкого досыта: Садык в работе правый глаз потерял, Вахоня на левое ухо совсем не слышал.
На Ильменских горах они, конечно, не раз бывали.
Как гражданская война началась, оба старика в этих же местах оказались. По горняцкому положению, конечно, оба по винтовке взяли и пошли воевать за советскую власть. Потом, как Колчака в Сибирь отогнали, политрук и говорит:
– Пламенное, дескать, вам спасибо, товарищи-старики, от лица советской власти, а только теперь, как вы есть инвалиды подземного труда, подавайтесь на трудовой фронт. К тому же, – говорит, – фронтовую видимость нарушаете, как один кривой, а другой глухой.
Старикам это обидно, а что поделаешь? Правильно политрук сказал:
– надо поглядеть, что на приисках делается. Пошли сразу к Ильменям, а там народу порядком набилось, и все хита самая последняя. Этой ничего не жаль, лишь бы рублей побольше зашибить. Все ямы, шахты живо засыплет, коли выгодно покажется. За хитой, понятно, купец стоит, только себя не оказывает, прячется. Заподумывали наши старики – как быть? Сбегали в Миас, в Златоуст, обсказали, а толку не выходит. Отмахиваются:
– Не до этого теперь, да и на то главки есть. Стали спрашивать про эти главки, в голове муть пошла. По медному делу – одна главка, по золотому – другая, по каменному – третья. А как быть, коли на Ильменских горах все есть. Старики тогда и порешили.
– Подадимся до самого товарища Ленина. Он, небось, найдет время.
Стали собираться, только тут у стариков рассорка случилась. Вахоня говорит: для показу надо брать один дорогой камень, который в огранку принимают. Ну, и золотой песок тоже. А Садык свое заладил: всякого камня образец взять, потому дело научное.
Спорили, спорили, на том договорились: каждый соберет свой мешок, как ему лучше кажется.
Вахоня расстарался насчет цирконов да фенакитов. В Кочкарь сбегал, спроворил там эвклазиков синеньких да розовых топазиков. Золотого песку тоже. Мешочек у него аккуратный вышел и камень все – самоцвет. А Садык наворотил, что и поднять не в силах. Вахоня грохочет:
– Хо-хо-хо. Ты бы все горы в мешок забил! Разберись, дескать, товарищ Ленин, которое к делу, которое никому не надо.
Садык на это в обиде.
– Глупый, – говорит, – ты, Максимка, человек, коли так бачку Ленина понимаешь. Ему научность надо, а базарная цена камню – наплевать.
Поехали в Москву. Без ошибки в дороге, конечно, не обошлось. В одном месте Вахоня от поезда отстал. Садык хоть и всердцах на него был, сильно запечалился, захворал даже. Как-никак всегда вместе были, а тут при таком важном деле разлучились. И с двумя мешками камней одному хлопотно. Ходят, спрашивают, не соль ли в мешках для спекуляции везешь? А как покажешь камни, сейчас пойдут расспросы, к чему такие камни, для личного обогащения али для музея какого? Одним словом, беспокойство.
Вахоня все-таки как-то исхитрился, догнал поезд под самой Москвой. До того друг другу обрадовались, что всю вагонную публику до слез насмешили: обниматься стали. Потом опять о камнях заспорили, который мешок нужнее, только уж помягче, с шуткой. Как к Москве подъезжать стали, Вахоня и говорит:
– Я твой мешок таскать буду. Мне сподручнее и не столь смешно. Ты поменьше, и мешок у тебя будет поменьше. Москва, поди-ко, а не Миас! Тут порядок требуется.
Первую ночь, понятно, на вокзале перебились, а с утра пошли по Москве товарища Ленина искать. Скоренько нашли и прямо в Совнарком с мешками ввалились. Там спрашивают, что за люди, откуда, по какому делу.
Садык отвечает:
– Бачка Ленин желаим каминь казать.
Вахоня тут же гудит:
– Места богатые. От хиты ухранить надо. Дома толку не добились. Беспременно товарища Ленина видеть требуется.
Ну, провели их к Владимиру Ильичу. Стали они дело обсказывать, торопятся, друг дружку перебивают.
Владимир Ильич послушал, послушал и говорит:
– Давайте, други, поодиночке. Дело, гляжу, у вас государственное, его понять надо.
Тут Вахоня, откуда и прыть взялась, давай свои дорогие камешки выкладывать, а сам гудит: из такой ямы, из такой шахты камень взял, и сколько он на рубли стоит.
Владимир Ильич и спрашивает:
– Куда эти камни идут?
Вахоня отвечает – для украшения больше. Ну, там перстни, серьги, буски и всякая такая штука. Владимир Ильич задумался, полюбовался маленько камешками и сказал:
– С этим погодить можно.
Тут очередь до Садыка дошла. Развязал он свой мешок и давай камни на стол выбрасывать, а сам приговаривает:
– Амазон-каминь, калумбит-каминь, лабрадор-каминь.
Владимир Ильич удивился:
– У вас, смотрю, из разных стран камни.
– Так, бачка Ленин! Правда говоришь. Со всякой стороны каминь сбежался. Каменный мозга каминь, и тот есть. В Еремеевской яме солничный каминь находили.
Владимир Ильич тут улыбнулся и говорит:
– Каменный мозг нам, пожалуй, ни к чему. Этого добра и без горы найдется. А вот солнечный камень нам нужен. Веселее с ним жить.
Садык слышит этот разговор и дальше старается:
– Потому, бачка Ленин, наш каминь хорош, что его солнышком крепко прогревает. В том месте горы поворот дают и в степь выходят.
– Это, – говорит Владимир Ильич, – всего дороже, что горы к солнышку повернулись и от степи не отгораживают.
Тут Владимир Ильич позвонил и велел все камни переписать и самый строгий декрет изготовить, чтоб на Ильменских горах всю хиту прекратить и место это заповедным сделать. Потом поднялся на ноги и говорит:
– Спасибо вам, старики, за заботу. Большое вы дело сделали! Государственное! – И руки им, понимаешь, пожал.
Ну, те, понятно, вне ума стоят. У Вахони вся борода слезами как росой покрылась, а Садык бороденкой трясет да приговаривает:
– Ай, бачка Ленин! Ай, бачка Ленин!
Тут Владимир Ильич написал записку, чтоб определить стариков сторожами в заповедник и пенсии им назначить.
Только наши старики так и не доехали до дому. По дорогам в ту пору, известно, как возили. Поехали в одно место, а угадали в другое. Война там, видно, кипела, и, хотя один был глухой, а другой кривой, оба снова воевать пошли.
С той поры об этих стариках и слуху не было, а декрет о заповеднике вскорости пришел. Теперь этот заповедник Ленинским зовется.[2]
Богатырева рукавица
Из уральских сказов о Ленине
В здешних-то местах раньше простому человеку никак бы не удержаться: зверь бы заел либо гнус одолел. Вот сперва эти места и обживали богатыри. Они, конечно, на людей походили, только сильно большие и каменные. Такому, понятно, легче: зверь его не загрызет, от оводу вовсе спокойно, жаром да стужей не проймешь, и домов не надо.
За старшего у этих каменных богатырей ходил один, по названью Денежкин. У него, видишь, на ответе был стакан с мелкими денежками из всяких здешних камней да руды. По этим рудяным да каменным денежкам тому богатырю и прозванье было.
Стакан, понятно, богатырский – выше человеческого росту, много больше сорокаведерной бочки. Сделан тот стакан из самолучшего золотистого топаза и до того тонко да чисто выточен, что дальше некуда. Рудяные да каменные денежки насквозь видны, а сила у этих денежек такая, что они место показывают.
Возьмет богатырь какую денежку, потрет с одной стороны, – и сразу место, с какого та руда либо камень взяты, на глазах появится. Со всеми пригорочками, ложками, болотцами, – примечай, знай. Оглядит богатырь, все ли в порядке, потрет другую сторону денежки, – и станет то место просвечивать. До капельки видно, в котором месте руда залегла и много ли ее. А другие руды либо камни сплошняком кажет. Чтоб их разглядеть, надо другие денежки с того же места брать.
Для догляду да посылу была у Денежкина богатыря каменная птица. Росту большого, нравом бойкая, на лету легкая, а обличье у ней сорочье – пестрое. Не разберешь, чего больше намешано: белого, черного али голубого. Про хвостовое перо говорить не осталось, – как радуга в смоле, а глаз агатовый в веселом зеленом ободке. И сторожкая та каменная сорока была. Чуть кого чужого заслышит, сейчас заскачет, застрекочет, богатырю весть подает.
Смолоду каменные богатыри крутенько пошевеливались. Немало они троп протоптали, иные речки отвели, болота подсушили, вредного зверья поубавили. Им ведь ловко: стукнет какую зверюгу каменным кулаком, либо двинет ногой – и дыханья нет. Одним словом, поработали.
Старшой богатырь нет-нет и гаркнет на всю округу:
– Здоровеньки, богатыри? А они подымутся враз, да и загрохочут:
– Здоровы, дядя Денежкин, здоровы!
Долго так-то богатыри жили, потом стареть стали. Покличет их старшой, а они с места сдвинуться не могут. Кто сидит, кто лежмя лежит, вовсе камнями стали, богатырского оклику не слышат. И сам Денежкин отяжелел, мохом обрастать стал. Чует, – стоять на ногах не может. Сел на землю, лицом к полуденному солнышку, присугорбился, бородой в коленки уперся, да и задремал. Ну, все-таки заботы не потерял. Как заворошится каменная сорока, так он глаза и откроет. Только и сорока не такая резвая стала. Тоже, видно, состарилась.
К этой поре и люди стали появляться. Первыми, понятно, охотники забегать стали, как тут вовсе приволье было. За охотниками пахарь пришел. Стал деревья валить да деревни ставить. Вскорости и такие объявились, кои по горам да ложкам землю ковырять принялись, не положено ли тут чего на пользу. Эти живо прослышали насчет топазового стакана с денежками и стали к нему подбираться.
Первый-то, кто на это диво набрел, видать, из простодушных случился. Он только на веселые камешки польстился. Набрал их всяких: желтеньких, зеленых, вишневых. Ну, и открыл места, где такие камешки водятся.
За этим добытчиком другие потянулись. Больше норовят тайком один от другого. Известно, жадность людская: охота все богатство на себя одного перевести.
Прибегут такие, видят – старый богатырь вовсе утлый, чуть живой сидит, а все-таки вполглаза посматривает. Топазовый стакан полнехонек рудяными да каменными денежками и закрыт богатыревой рукавицей, а на ней каменная сорока поскакивает, беспокоится. Добытчикам, понятно, страшно, они и давай старого богатыря словами обхаживать.
– Дозволь, родимый, маленько денежек взаймы взять. Как справлюсь с делом, непременно отдам. Убери свою сороку.
Старик на эти речи ухмыльнется и пробурчит, как гром по далеким горам:
– Бери сколь надобно, только с уговором, чтоб народу на пользу.
И сейчас своей птице знак подает.
– Посторонись, Стрекотуха.
Каменная сорока легонько подскочит, крыльями взмахнет и на левое плечо богатыря усядется да оттуда и уставится на добытчика.
Добытчики хоть оглядываются на сороку, а все-таки рады, что с места улетела. Про рукавицу, чтоб богатырь снял ее, просить не насмеливаются: сами, дескать, как-нибудь одолеем это дело. Только она – эта богатырева рукавица – людям невподъем. Вагами да ломами ее отворачивать примутся. В поту бьются, ничего не щадят. Хорошо, что топазовый стакан навеки сделан – его никак не пробьешь.
Ну, все-таки сперва и на старика поглядывают и на сороку озираются, а как маленько сдвинут рукавицу да запустят руки в стакан, так последний стыд потеряют. Всяк норовит ухватить побольше, да такие денежки выбирают, кои подороже кажутся. Иной столько нахапает, что унести не в силу. Так со своей ношей и загибнет.
Старый Денежкин эту повадку давно на примету взял. Нет-нет и пошлет свою сороку.
– Погляди-ко, Стрекотуха, далече ли тот ушел, который два пестеря денежек нагреб.
Сорока слетает, притащит обратно оба пестеря, ссыплет рудяные денежки в топазовый стакан, пестери около бросит, да и стрекочет:
– На дороге лежит, кости волками оглоданы.
Богатырь Денежкин на это и говорит:
– Вот и хорошо, что принесла. Не на то нас с тобой тут поставили, чтоб дорогое по дорогам таскалось. А того скоробогатка не жалко. Все бы нутро земли себе уволок, да кишка порвалась.
Были, конечно, и удачливые добытчики. Немало они рудников да приисков пооткрывали. Ну, тоже не совсем складно, потому – одно добывали, а дороже того в отвалы сбрасывали.
Неудачливых все-таки много больше пришлось. С годами все тропки к Денежкину-богатырю по человечьим костям приметны стали. И около топазового стакана хламу много развелось. Добытчики, видишь, как дорвутся до богатства, так первым делом свой инструментишко наполовину оставят, чтоб побольше рудяных денег с собой унести. А там, глядишь, каменная сорока их сумки-котомки, пестери да коробья обратно притащит, деньги в стакан ссыплет, а сумки около стакана бросит. Старик Денежкин на это косился, ворчал:
– Вишь, захламили место. Стакана вовсе не видно стало. Не сразу подберешься к нему. И тропки тоже в нашу сторону все испоганили. Настоящему человеку по таким и ходить-то, поди, муторно.
Убирать кости по дороге и хлам у стакана все-таки не велел. Говорил сороке:
– Может, кто и образумится, на это глядя. С понятием к богатству подступит.
Только перемены все не было. Старик Денежкин иной раз жаловался:
– Заждались мы с тобой, Стрекотуха, а все настоящий человек не приходит.
Когда опять уговаривать сороку примется:
– Ты не сомневайся, придет он. Без этого быть невозможно. Крепись как-нибудь. Сорока на это головой скоренько запокачивает:
– Верное слово говоришь. Придет!
А старик тогда и вздохнет:
– Передадим ему все по порядку – и на спокой.
