Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности
Итак, рассмотрев несколько основных для XX века определений языка (см. предыдущую статью), мы должны прийти к выводу, что определение "Язык — дом духа" является наиболее общим. Не столь существенно, что оно восходит к философу-экзистенциалисту и что ему придана экзистенциалистская форма; мы могли бы привести еще не менее десятка сходных определений разной философской окраски (в том числе и наше собственное — "Язык — пространство мысли"). Если мы выбрали данное, то лишь потому, что оно звучит как афоризм, оно красиво, и оно легко запоминается.
Что касается его общности, то, действительно, им хорошо покрываются по крайней мере два следующие доминирующие понимания языка в конце нашего века. Первое: язык неотделим от познания и, самое главное, от процедур добывания знания и операций с ним; это понимание, когнито-логическое, принадлежит новому комплексу дисциплин — ко-гнитологии и тесно связано с практической деятельностью в области компьютерной информатики. Легко видеть, что здесь господствует общий деятельностный подход; второе — связывает язык с глубинным, философским постижением действительности: язык — пространство философствования. Оно носит более спокойный и созерцательно-философский характер. Конечно, оба понимания различны. Но они не противопоставлены, а взаимодополнительны. К ним равно подходит определение Язык — дом духа". Различие лежит, скорее, в понимании самого "духа" — как энергично, "предпринимательски", действующе-

 го, в первом случае, и как спокойно-созерцательного, во втором. Это различие больше похоже на религиозное, чем на научное. И однако оно очень существенно. Если первый подход воплощает, скорее, современные лингво-технические достижения, он — на высоте современной технологии, то второй лежит в сфере логико-философских поисков.
го, в первом случае, и как спокойно-созерцательного, во втором. Это различие больше похоже на религиозное, чем на научное. И однако оно очень существенно. Если первый подход воплощает, скорее, современные лингво-технические достижения, он — на высоте современной технологии, то второй лежит в сфере логико-философских поисков.
Наши дальнейшие рассуждения здесь будут связаны со
второй линией. Мы покажем, что в рамках этого течения возник
ли три такие столь важные для нашего ментального мира вооб
ще, понятия, как 1) язык в языке, или дискурс; 2) новая катего
рия— "Факт"; 3) новое понимание причины и прин
ципа причинности. Мы изложим их в этой последова
тельности.
1. Дискурс
Термин дискурс (фр. discours, англ. discourse) начал широко употребляться в начале 1970-х гг., первоначально в значении близком к тому, в каком в русской лингвистике бытовал термин "функциональный стиль" (речи или языка). Причина того, что при живом термине "функциональный стиль" потребовался другой — "дискурс", заключалась в особенностях национальных лингвистических школ, а не в предмете. В то время как в русской традиции (особенно укрепившейся в этом отношении с трудами акад. В. В. Виноградова и Г. О. Винокура) "функциональный стиль" означал прежде всего особый тип текстов — разговорных, бюрократических, газетных и т. д., но также и соответствующую каждому типу лексическую систему и свою грамматику, в англосаксонской традиции не было ничего подобного, прежде всего потому, что не было стилистики как особой отрасли языкознания.
Англо-саксонские лингвисты подошли к тому же предмету, так сказать, вне традиции — как к особенностям текстов. "Дискурс" в их понимании первоначально означал именно тексты в их текстовой данности и в их особенностях. Т. М. Николаева в своем Словарике терминов лингвистики текста (1978 г.) под этим
термином писала: "Дискурс — многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в значениях, почти омонимичных (т. е. даже не синонимичных. — Ю. С). Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устно-разговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность — письменная или устная" [Николаева 1978, 467]. Лишь значительно позднее англосаксонские лингвисты осознали, что "дискурс" — это не только "данность текста", но и некая стоящая за этой "данностью" система, прежде всего грамматика. "Первоначально,— писали в 1983 г. Т. А. ванДейк и В. Кинч,— теоретические предположения, основанные на том, что грамматика должна объяснить системно-языковые структуры целого текста, превращаясь, таким образом, в грамматику текста, оставались декларативными и по-прежнему слишком близкими по своему духу генеративной парадигме. Однако вскоре и грамматика текста, и лингвистические исследования дискурса разработали более независимую парадигму, которая была принята в Европе и в Соединенных Штатах" [ван Дейк и Кинч 1988, 154]. Однако и в этой работе двух авторов по-прежнему доминирует чисто "текстовой" подход— на тексты смотрят, в общем, как "на речевые произведения", которых великое множество, может быть множество неисчислимое, и которые поэтому требуют выработки лишь общих принципов для своего понимания (для "своей грамматики"), но не реальных конкретных грамматик разных типов дискурса.
Между тем В. 3. Демьянков в своем словаре "Англо-русских терминов по прикладной лингвистике и автоматической переработке текста" (вып. 2, 1982 г.) сумел дать обобщающий эскиз того, что представляет собой "грамматика" и, шире, "мир дискурса". В. 3. Демьянков писал (мы опускаем его многочисленные указания на отдельные работы, подтверждающие его обобщения): «Discourse — дискурс, произвольный фрагмент текста, состоящий более чем из одного предложения или независимой части предложения. Часто, но не всегда, концентрируется вокруг некоторого опорного концепта; создает общий контекст, описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки и т. п., определяясь не столько последовательностью предложений, сколько тем общим для создающего дискурс и его

 интерпретатора миром, который "строится" по ходу развертывания дискурса, — это точка зрения "этнография речи", ср. предлагаемый (в одной из работ. — Ю. С.) гештальтистский подход к дискурсу. Исходная структура для дискурса имеет вид последовательности элементарных пропозиций, связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т. п. Эле-менты дискурса: излагаемые события, их участники, перформа тивная информация и "не-события", т. е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с событиями » {Демьянков 1982, 7]. Это лучшее до сих пор определение дискурса показывает, что для понимания того, что такое дискурс, мы нуждаемся не столько в общих рекомендациях (которые ставили своей целью, например, Т. А. ван Дейк и В. Кинч в упо-мянумой работе),— ведь дискурс описывается как всякий язык (а не просто текст), как всякий язык, имеющий свои тексты, — мы нуждаемся в хороших описаниях дискурсов, без которых не может быть продвинута и их теория. И такие описания не замедлили появиться. И еще на каком материале!
интерпретатора миром, который "строится" по ходу развертывания дискурса, — это точка зрения "этнография речи", ср. предлагаемый (в одной из работ. — Ю. С.) гештальтистский подход к дискурсу. Исходная структура для дискурса имеет вид последовательности элементарных пропозиций, связанных между собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т. п. Эле-менты дискурса: излагаемые события, их участники, перформа тивная информация и "не-события", т. е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с событиями » {Демьянков 1982, 7]. Это лучшее до сих пор определение дискурса показывает, что для понимания того, что такое дискурс, мы нуждаемся не столько в общих рекомендациях (которые ставили своей целью, например, Т. А. ван Дейк и В. Кинч в упо-мянумой работе),— ведь дискурс описывается как всякий язык (а не просто текст), как всякий язык, имеющий свои тексты, — мы нуждаемся в хороших описаниях дискурсов, без которых не может быть продвинута и их теория. И такие описания не замедлили появиться. И еще на каком материале!
Мы имеем в виду — уже ставшую классической — работу франко-швейцарского лингвиста и культуролога Патрика Серио (другая его работа публикуется в настоящей книге) "Анализ советского политического дискурса" ("Analyse du discours politique sovietique", Paris, 1985) (см. [Seriot 1985], — далее указываем страницы этого издания).
П. Серио начинает свое исследование как историческое, показывая, какое воздействие оказал на русский язык "советский способ оперирования с языком" на протяжении десятилетий советского строя.
Что получилось в русском языке— новый язык? Новый "подъязык"? Новый "стиль"? Нет, — гласит ответ П. Серио. — То, что образовалось в русском языке должно быть названо особым термином — "дискурс". Мы, со своей стороны, предварительно разъясним это явление так: дискурс — это первоначально особое использование языка, в данном случае русского, для выражения особой ментальности, в данном случае также особой идеологии; особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, особую грамматику и осо-
бые правила лексики. И, как мы увидим дальше, в конечном счете в свою очередь создает особый "ментальный мир". Дискурс советской идеологии хрущевской и брежневской поры получил во Франции среди знающих русский язык наименование "langue de bois", "деревянный язык" (во Франции бытует также выражение "gueule de bois", явно сходное с упомянутым, но применимое обычно к тому, что человек ощущает у себя во рту при "крутом похмелье").
Конечно, дискурс существует не только в явно обозначенной политической сфере. Скажем, — современный "русский речевой этикет" (так даже называются некоторые книги). Идет ли речь о нормах русского языка? Нет, — опять отвечает Серио. — Речь идет о нормах дискурса, которые авторы подобных работ желают выдать за нормы русского языка вообще. И это совершенно верное утверждение П. Серио. Автор ставит своей задачей "читать строки", а не "читать между строк": дискурс — это прежде всего тексты (прежде всего, но как мы опять-таки увидим ниже — далеко не только тексты). П. Серио анализирует вплоть до мельчайших деталей два — "основополагающих" для названной эпохи — текста: Н. С. Хрущев "Отчет Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза XXII съезду КПСС" (1961 г.) и Л. И. Брежнев "Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIII съезду Коммунистической Партии Советского Союза" (1966 г.). В результате анализа выясняются две яркие особенности советского политического дискурса этой эпохи — так называемая "номинализация" и так называемое "сочинение" (т. е. сочинительные связи в некоторых частях предложения).
Номинализация — само по себе явление не новое, это одна из общих тенденций языкового союза, в который входит русский язык. Но в советском политическом дискурсе эта тенденция приобретает до крайности гипертрофированные масштабы и преломляется особым образом. Вот типичный пример (из доклада Брежнева, по книге "Ленинским курсом", М.: Изд. Политич. литер., 1973, с. 313):
"Главным источником роста производительности труда Должно быть повышение технического уровня производства на основе развития и внедрения новой техники и прогрессивных


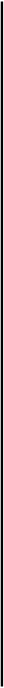
 технологических процессов, широкого применения комплексной механизации и автоматизации, а также углубление специализации и улучшение производственного кооперирования предприятий".
технологических процессов, широкого применения комплексной механизации и автоматизации, а также углубление специализации и улучшение производственного кооперирования предприятий".
Семантическим итогом таких бесчисленных номинализа-ций, т. е. замены личных форм глаголов их производными на чгние, -ение, -ация и т. п. является исчезновение субъекта, агенса того, о чем говорится. Все процессы приобретают безличный облик, хотя и не схожий с тем, который имеет "классическая" безличность в русском языке (например, Меня так и осенило; Его будто бы ударило, и т. п.). А после того как субъект устранен, возможны дальнейшие, уже чисто идеологические манипуляции с поименованными сущностями.
Сочинение — другая особенность советского политического дискурса. Оно приобретает две основные формы — либо соединяются посредством союза "и" два понятия (или большее их число), которые в обычной русской речи, т. е. за пределами данного "дискурса", синонимами не являются: например, "партия", "народ" — результат "партия и народ". Либо, при другой форме сочинения, союз "и" вообще устраняется и логические отношения между соединенными понятиями вообще приобретают форму, не поддающуюся интерпретации: например, "партия, весь советский народ"; "комсомольцы, вся советская молодежь".
Результатом этой процедуры оказывается следующий семантический парадокс: огромное количество понятий в конечном счете оказывается как бы синонимами друг друга, чем и навевается идея об их действительном соотношении в "жизни", о чем-то вроде их "тождественности". П. Серио приводит такой список сочиненных понятий — иллюстрация парадокса [Seriot 1985, 95]:
партия = народ = ЦК = правительство = государство = коммунисты = советские люди = рабочий класс = все народы Советского Союза = каждый советский человек = революция = наш съезд = рабочие = колхозники = беспартийные = рабочие совхозов = специалисты сельского хозяйства = . . . и т. д. (мы пропускаем часть списка) . . . = народы всех братских республик Советского Союза = общество = инженеры = техники = конструкторы = ученые = колхозное крестьянство = крестьяне = делегаты XXII
съезда - народы других стран == все человечество = трудящиеся всех стран = весь социалистический лагерь = социализм = массы
МИЛЛИОНЫ.
Точно такое же соотношение касается и тех, кто произносит "отчетный доклад". Но здесь вопрос даже сложнее: «Что делает Хрущев или Брежнев, "выступая с докладом"?»— "читает доклад" (или: "зачитывает" его)? "произносит доклад"? "делает доклад"? и т. д. Очевидно, что все эти разные формы предполагают разное авторское участие, разную степень ответственности докладчика за текст доклада. И, совершенно подобно тому, что мы отметили выше при "номинали-зации", здесь происходит "исчезновение авторства" и одновременно "исчезновение ответственности": официально приемлемо почти только одно выражение — "выступил с докладом".
С другой стороны, к тому же результату ведет и "сочинение", итогом чего оказывается, что "источником" текста является: я (= Генсек) = ЦК = вся партия = наша страна - мы, а его "получателем", "адресатом": делегаты съезда = все коммунисты = народ = все прогрессивное человечество = все люди = мы [Seriot 1985, 71].
Рассмотрим теперь некоторые общие признаки д и с-курса вообще.
Дискурс, по-видимому, создается не во всяком языке, или, точнее не во всяком ареале языковой культуры. Мы увидим далее (в разделах 2 и 3), что дискурсы, в частности, "дискурс царя Эдипа", выделяются в древнегреческом языке соответствующей эпохи. Это связано, по-видимому, с наличием особого мифологического слоя в греческой культуре того времени. Но не является ли дискурс всегда, в том числе и в наши дни, выражением какой-то мифологии?
Во всяком случае дискурс не может быть сведен к стилю. И именно поэтому стилистический подход, создание стилистики как особой дисциплины в рамках изучения данного языка, — в настоящее время уже не является адекватным. П. Серио [Seriot 1985, 287] хорошо показывает это на примере сравнения русского политического дискурса с переводами его текстов на чешский язык. Возьмем, к примеру, такое высказывание из советского политического дискурса:


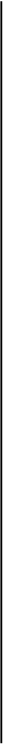 "В отличие от других форм организации общественно-производственного труда учащихся школьная бригада помогает наиболее удачно решать задачи массового вовлечения подростков и юношей в колхозное производство, обеспечения их труда педагогическим и агротехническим руководством, выполнения учащимися всего комплекса полевых работ, применения механизации".
"В отличие от других форм организации общественно-производственного труда учащихся школьная бригада помогает наиболее удачно решать задачи массового вовлечения подростков и юношей в колхозное производство, обеспечения их труда педагогическим и агротехническим руководством, выполнения учащимися всего комплекса полевых работ, применения механизации".
Чешский перевод:
"Na rozdil od jinych organizacnich forem spolecenske vyrobni pra-ce zaku pomaha Skolni brigada nejzdarileji reSit ukol,aby byla dospivajici mladez masove zarazena do kolchozni vyroby, aby jeji praci bylo zajiSte-no pedagogicke a agrotechnicke vedeni, aby zaci vykonavali cely kom-plex polnich praci a aby bylo vyuzito mechanizace".
Если подходить к сравнению этих образцов текста только с точки зрения языковой "характерологии" и сравнительной стилистики, как это предписывалось в духе соответствующего определения языка (см. пункт 5 в предыд. статье), то останется как раз неучтенным и неосознанным то различие, что русско-советские номинализации по-чешски передаются развернутыми фразами и, следовательно, в чешском языке не существует фундаментальная двусмысленность советского политического дискурса, которая отмечена выше.
Другая особая, конституирующая черта дискурса состоит в том, что дискурс предполагает и создает своего рода идеального адресата (как говорит П. Серио, un Destina-taire ideal). Этот "идеальный адресат дискурса" отличен от конкретного "воспринимателя речи" (un recepteur concret), каковыми являются, в частности, все делегаты съезда КПСС, сидящие в зале заседаний съезда и слушающие отчетный доклад. "Идеальный адресат, — говорит П. Серио, — может быть определен как тот, кто принимает все пресуппозиции каждой фразы, что позволяет дискурсу осуществиться; при этом дискурс-монолог приобретает форму псевдо-диалога с идеальным адресатом, в котором (диалоге) адресат учитывает все пресуппозиции. В самом деле, отрицать пресуппозиции было бы равносильно отрицанию правил игры и тем самым отрицанию за говорящим-докладчиком его права на место оратора, которое он занимает".
Но каковы эти пресуппозиции?— Они показаны в предыдущем анализе. В частности, одной из самых сильных является следующая: номинализованные группы (номинализации вместо пропозиций, содержащих утверждение) являются обозначениями объектов (референтов), реально существующих, — однако их существование (т. е. утверждение существования) никем не производилось: номинализации такого рода выступают как кем-то (неизвестно кем, — это остается в тени) изготовленные "полуфабрикаты", которые говорящий (оратор) лишь использует, вставляя в свою речь. П. Серио называет эти "полуфабрикаты" — номинализации специальным термином "le preconstruit", примерный перевод которого может быть таким: "предварительные заготовки", или, как мы уже сказали "полуфабрикаты". (Во французском языке, например, сборные дома называются аналогичным термином "prefabrique".)
Из этих особенностей дискурса вытекают новые требования к его логическому анализу. П. Серио демонстрирует это на следующем примере (с. 241 и сл.). Допустим, мы имеем фразу (это подлинная фраза из доклада Н. С. Хрущева):
"Одержанные советским народом всемирно-исторические победы являются самым убедительным доказательством правильного применения и творческого развития марксистско-ленинской теории".
Обычный логический анализ, т. е. анализ в терминах пропозиций-утверждений был бы таким:
(1) советский народ одержал всемирно-исторические побе
ды;
(2) м.-л. теория правильно применяется / применялась / бы
ла применена. — N правильно применяет / применял / применил
м.-л. теорию;
(3) м.-л. теория творчески развивается / развивалась / раз
вилась. N развивает / развивал / развил м.-л. теорию.
Однако ввиду наличия в исходном контексте не пропозиций, а номинализаций все эти утверждения и соответствующий силлогизм как бы заранее устранены, или, говоря теперь точнее в терминах анализа дискурса, заранее утверждены как не требующие доказательства, как "preconstruit".


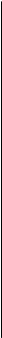 В своей работе П. Серио создает эскиз нового типа логического анализа, применимого к советскому политическому дискурсу и, как мы полагаем, к дискурсу вообще. Эту часть исследования П. Серио мы здесь оставляем в стороне, — более подробно новый тип анализа будет освещен ниже, по данным, главным образом, так называемой "Пенсильванской школы" США, в особенности работ 3. Вендлера.
В своей работе П. Серио создает эскиз нового типа логического анализа, применимого к советскому политическому дискурсу и, как мы полагаем, к дискурсу вообще. Эту часть исследования П. Серио мы здесь оставляем в стороне, — более подробно новый тип анализа будет освещен ниже, по данным, главным образом, так называемой "Пенсильванской школы" США, в особенности работ 3. Вендлера.
В заключении этого раздела отметим лишь одну немаловажную для нашей книги деталь: так называемый "классический генеративный анализ" не дает адекватного результата в случаях, подобных только что рассмотренному. «"Классическая" генеративная модель (т. е. модель синтаксиса, функционирующего без учета лексики, даже если она принимает во внимание "лексические ограничения", des contraintes de selection) дала бы в таких случаях анализ, основанный на представлении синтагматической последовательности (компонентов фразы. — Ю. С. ). ... Такой анализ функционирует, на наш взгляд, путем атомизации поверхностных единиц» [Seriot 1985, 319 и сл.]. Между тем суть анализа, по справедливому выводу П. Серио, должна заключаться как раз в том, чтобы описать фундаментальную особенность дискурса данного типа— "амбивалентность", или фундаментальную двусмысленность" (ambivalence ou ambiguite) его именных групп-но-минализаций. П. Серио удачно подошел к формулировке этой задачи.
Следующий шаг в ее решении был связан с работами "Пенсильванской школы" США и с новой трактовкой категорий "Факт" и "Причина".
Итак, что такое дискурс?
Подводя итог этому разделу, нужно сказать, что дискурс — это "язык в языке", но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей "грамматики" и своего "лексикона", как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, — в конечном счете — особый мир, В мире всякого дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет. Это — "возможный (альтернативный) мир"
в полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс — это один из "возможных миров". Само явление дис-курса, его возможность, и есть доказательство тезиса "Язык — дом духа" и, в известной мере, тезиса "Язык — дом бытия".
Поэтому ниже, в следующем пункте, когда мы перейдем к анализу категории "Факт", мы будем говорить не только о категориях в формах языка (это, со времени Категорий Аристотеля, основной принцип рассуждений о категориях), но и о категориях в формах определенных дискурсов, — а это уже некоторое новшество. Оно носит логико-лингвистический характер. Собственно говоря, его уже — если не предвидел (поскольку он занимался другими вопросами, нежели те, к которым мы хотим применить его рассуждение) — то во всяком случае предварил Б. Рассел в своей теории типов, изложенной в его совместной с А. Н. Уайтхедом работе "Principia mathematica" (в 1-м томе, 1910г.) и первоначально имевшей целью разрешить проблему логических парадоксов (ср., например, известный "парадокс лжеца" и др.). «Основной принцип этой теории,— резюмирует X. Б. Карри, — состоит в том, что логические понятия (высказывания, индивиды, пропозициональные функции) располагаются в иерархию "типов" и что функция может иметь в качестве своих аргументов лишь понятия, которые предшествуют ей в этой иерархии, но не принадлежат ее уровню» [Карри 1969, 47]. Поскольку всякое предложение, построенное по нормальной модели, может быть сведено к некоторой пропозициональной функции (предикат при этом становится выражением функции, субъект и объекты ее аргументами), и поскольку дискурсы различаются типами своих предложений и, следовательно, своими пропозициональными функциями, то ясно, что это положение Рассела имеет также прямое отношение к логическому описанию дискурсов. Это делается тем более очевидным, если мы вспомним другие высказывания Б.Рассела по этому вопросу, например, следующее: "Если слова являются словами различных типов, то выражаемые ими значения также являются значениями различных типов". С другой стороны, в теории типов пересматривается обыденная, или "наивная" презумпция, что любое грамматически правильное предложение выражает некоторое осмысленное суждение.


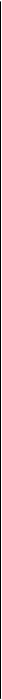
 Но с другой стороны это же утверждалось, в совершено иных терминах и иной картине взглядов, в понимании языка "как системы систем" (язык, в сущности не система в семиологи-ческом или семиотическом смысле слова, а именно система разных систем). Таким образом, то, о чем мы здесь говорим и о чем будем говорить в следующем пункте, является в некотором роде следствием из названного (и рассмотренного выше) понимания языка "как системы систем". Пункт же этот — открытие категории "Факт".
Но с другой стороны это же утверждалось, в совершено иных терминах и иной картине взглядов, в понимании языка "как системы систем" (язык, в сущности не система в семиологи-ческом или семиотическом смысле слова, а именно система разных систем). Таким образом, то, о чем мы здесь говорим и о чем будем говорить в следующем пункте, является в некотором роде следствием из названного (и рассмотренного выше) понимания языка "как системы систем". Пункт же этот — открытие категории "Факт".
2. Категория "Факт"
Мы собираемся говорить о "факте" как новой категории, точнее — категории недавно открытой*. Естественно, что открытие требует для своей обрисовки некоторого исторического фона, и поэтому мы рассмотрим этот вопрос на некотором отрезке истории. Сформулируем вехи этого временного отрезка в виде двух вопросов, которые ставились и решались, соответственно, в начале и в конце этого периода, или, точнее, в виде двух утверждений, которые давались как ответы на возникавшие вопросы.
(1) Языковой символ для факта не является именем. — Это главный тезис Б. Рассела периода "логического атомизма", т. е. 1920-х гг. Это же и начало той проблемы, которая занимает нас теперь. "Факты могут быть утверждаемы или отрицаемы, но не могут быть именуемы. (Когда я говорю "факты могут быть именуемы", — это, строго рассуждая, бессмыслица. Не впадая в бессмыслицу, можно сказать только так: "Языковой символ для факта не является именем" [Russel 1959, 43]. Что же является адекватным языковым символом для факта в теории Рассела тех лет? — Предложение (пропозиция), а , именно — атомарное предложение.
 Следующая часть (до раздела 3) одновременно публикуется в сборнике в честь члена-корреспондента Российской Академии Наук Ю. Н. Караулова "Язык - Система. Язык - текст. Язык и личность".
Следующая часть (до раздела 3) одновременно публикуется в сборнике в честь члена-корреспондента Российской Академии Наук Ю. Н. Караулова "Язык - Система. Язык - текст. Язык и личность".
Но тогда "факт" и есть то, что выражает предложение, или пропозиция (все термины берем здесь в понимании Б. Рассела этого периода). За такими утверждениями стоит особое понимание мира: мир состоит не из вещей, а из событий, или фактов.
Позднее, в период работы над книгой "Человеческое познание. Его сфера и границы" (1948, рус. пер. 1957) Рассел определил "факт" без отношения к языку: «"Факт" в моем понимании этого термина, может быть определен только наглядно. Все, что имеется во Вселенной, я называю "фактом". Солнце — факт; переход Цезаря через Рубикон был фактом; если у меня болит зуб, то моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт, и если мое утверждение истинно, то имеется факт, в силу которого оно является истинным, однако этого факта нет, если оно ложно. . . . Факты есть то, что делает утверждения истинными или ложными" [Рассел 1957, 177].
"Фактом" для Рассела в конечном счете оказывается непосредственно наблюдаемая (данная в опыте) "порция пространства-времени", будь эта "порция" "Цезарем", "переходом Цезаря через Рубикон" или "началом Второй мировой войны".
Вводя таким образом понятие "факт", Б. Рассел, как можно судить из совокупности его работ, преследовал две главные цели. С одной стороны, он хотел основать философию вообще и философию языка в частности на фундаменте английского эмпиризма. В соответствии с этой установкой, в теории не должно было быть места для эмпирически (опытно) не обоснованных первичных положений (понятий). Он подчеркнул это еще раз в своей полемике с Дж. Дьюи: "Д-р Дьюи занят главным образом теориями и гипотезами, в то время как я занят главным образом утверждениями о конкретных фактах (assertions about particular matters of fact). Как я уже объяснял, я считаю, что в любой эмпирической теории познания базовые утверждения должны касаться конкретных фактов (particular matters of fact), т. е. единичных событий, которые случаются только один раз" [Russel 1980, 324]. (Таким образом, заметим попутно, в теории Рассела "событие" — это или синоним "факта" или, во всяком случае, одна из разновидностей "фактов".)
С другой стороны, вводя понятие "факт", Б. Рассел намеревался тем самым расправиться со своим "черным животным" —

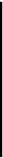
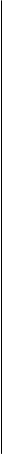
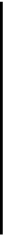 главным теоретическим понятием своих оппонентов (также и оп-понентов английского эмпиризма)— "понятием сущности", которое он считал вводящим в заблуждение и ввергающим в дебри бесплодных и темных рассуждений.
главным теоретическим понятием своих оппонентов (также и оп-понентов английского эмпиризма)— "понятием сущности", которое он считал вводящим в заблуждение и ввергающим в дебри бесплодных и темных рассуждений.
Однако Рассел, как и следовало ожидать, столкнулся и с "фактами" не в своем собственном смысле слова,— скорее с "фактами как упрямыми вещами", а именно с тем фактом, что в естественном языке есть имена, некоторые из которых выражают то, что Рассел называл "фактом" в своем понимании: например, Солнце, Цезарь, Рубикон, переход, зубная боль и т. п. В теории Рассела не должно быть места именам как языковым символам для "фактов", а в естественном языке такие имена есть. Естественно, создатель теории захотел выйти из этого затруднения.
И действительно, в его работе 1940 г.— "Разыскание о значении и истине" (это так называемые "Уильям-Джемсовские лекции 1940 г., прочитанные в Гарвардском университете", — таков подзаголовок книги), этот вопрос прямо поставлен. Предварительно нужно сказать, что Рассел различает два главных термина— "имя" и "отношение", под отношением он понимает самое существо предложения— структуру предиката). Итак, вопрос возник: "Can we invent a language without the distinction of names and relations?"— "Можем мы изобрести язык, в котором не было бы различия между именами и отношениями?". (Мы пользуемся изданием 1980 г. — [Russel 1980,94]).
И Рассел откровенно отвечает: "По этому вопросу у меня мало есть что сказать. Может быть, и возможно изобрести язык без имен, но, что касается меня, то я совершенно не в состоянии вообразить такой язык. Конечно, это аргумент не решающий, разве что в субъективном отношении: он кладет конец моей возможности обсуждать проблему." Но проблема остается, и Рассел продолжает:
"Однако, в мою задачу входит предложить точку зрения, которая на первый взгляд может показаться равносильной устранению имен. Я предлагаю устранить то, что обычно называют "индивидными обозначениями" ("particulars"), и удовольствоваться некоторыми словами, которые обычно считают "общими" ("universals"), такими, как "красное", "синее", "твердое", "мягкое" и т. п. Эти слова, по моей мысли, являются именами в синтакси-
ческом смысле. Таким образом, я стремлюсь не отменить имена, а придать необычное расширение термину "имя" [Russel 1980, 94-
95].
Примером трактовки "имени в синтаксическом смысле" является расселовский анализ предложения типа "Это— красное", который он сводит к эквивалентности "Красное есть здесь".
Итак, резюмируя и несколько упрощенно, можно сказать, что в теории Рассела, с 1920-х до 1940-х гг. (хотя и не неизменно, хотя и с уточнениями) рисуется такая картина: мир состоит не из "вещей11, а из "событий", или "фактов"; "события", или "факты", существуют объективно, поэтому соответствие им делает высказывания (пропозиции) истинными, а несоответствие — ложными; надо стремиться к тому (в научной теории), чтобы представить "события", или "факты" в "минимализованном" виде, как "кратчайшие отрезки пространства-времени" ("portions of space-time"); наиболее адекватное языковое выражение для "факта" — не имя, а атомарное предложение (пропозиция). Пример: "Цезарь" как собственное имя влечет ложное понимание— представление о некоей "сущности" (Рассел решительно против понятия "сущности"), между тем как анализ — в соответствии с теорией Рассела — должен привести нас к убеждению, что "Цезарь" есть серия "порций пространства-времени" — "Цезарь в данный момент", "Цезарь — вчера", "Цезарь, переходящий Рубикон", и т. п.
 (2) Языковой символ для факта не является предложением (п р о п о з и ц и е й). Между этим утверждением, противостоящим тому, которое выражено в предшествующем разделе, и последним можно было бы, по-видимому, установить ряд промежуточных звеньев, постепенно подводивших к данному и принадлежащих разным исследователям. Но мы сразу возьмем конечный результат — тот именно, который и выражен в приведенной форме. Опять-таки резюмируя, и несколько упрощая, этот результат следует связать с блестящей работой Зено Вендлера "Причинные отношения" ("Causal relations" [Vendler 1967]; рус. пер. [Вендлер 1986]). Она явилась завершающим звеном целого этапа американских исследований; в
(2) Языковой символ для факта не является предложением (п р о п о з и ц и е й). Между этим утверждением, противостоящим тому, которое выражено в предшествующем разделе, и последним можно было бы, по-видимому, установить ряд промежуточных звеньев, постепенно подводивших к данному и принадлежащих разным исследователям. Но мы сразу возьмем конечный результат — тот именно, который и выражен в приведенной форме. Опять-таки резюмируя, и несколько упрощая, этот результат следует связать с блестящей работой Зено Вендлера "Причинные отношения" ("Causal relations" [Vendler 1967]; рус. пер. [Вендлер 1986]). Она явилась завершающим звеном целого этапа американских исследований; в

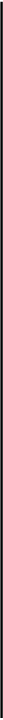

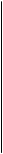 частности, она была непосредственным ответом на работу Д. Дэвидсона (см. (Дэвидсон 1986]).
частности, она была непосредственным ответом на работу Д. Дэвидсона (см. (Дэвидсон 1986]).
Как показывает само название, Вендлер рассматривает в своей статье прежде всего понятие "причины", но путем к решению проблемы является установление того, что такое "факты". Конечный вывод Вендлера гласит: "Причины — это факты, а не события" [Вендлер 1986, 270, 275].
На первый взгляд, может показаться, что Вендлер понимает "факт" так же, как Рассел. Некоторые места его статьи заставляют считать, что он и сам так думал или, во всяком случае, не обратил внимания на существенное отличие. Так, например, в разделе III (с. 273 — здесь и далее указываем стр. рус. пер.) он говорит: "То, что утверждается, может быть фактом, но чье-либо утверждение не может быть фактом, а может только соответствовать факту". — Сравним у Рассела: ". . . моя зубная боль есть факт. Если я что-нибудь утверждаю, то акт моего утверждения есть факт. . . " и т. д. (см. выше). Это отличие очень важно, если его проанализировать (такой анализ мы здесь опускаем), мы придем, по-видимому, к выводу, что теории Рассела и Вендлера не радикально различны, но, скорее, вторая является существенным развитием первой, и развитие заключается прежде всего в открытии новой категории — "категории факта".
Другое существеннейшее отличие состоит в разделении "события" и "факта". Это различие выясняется прежде всего через употребление соответствующих слов в естественном языке. (Здесь Вендлер разделяет основное убеждение Рассела: наблюдения над языком могут помочь нам понять, как устроен мир.) А именно: слово "факт" (точнее, слово "fact" в английском языке) имеет совершенно иную сочетаемость, нежели слово "событие" ("event" в английском языке), хотя в некоторой части их сочетаемости (дистрибуции) пересекаются: слово "факт" и сходные с ним подчиняются тем же ограничениям на сочетаемость, что и не полностью номинализованные группы, тогда как сочетаемост-ные ограничения слова "событие" (и слов его семьи) совпадают с ограничениями, характерными для полностью номинализован-ных групп. Так, например, группа That he sang the song и группа His having sung the song— это факты, а не события, тогда как
группа His beautiful singing of the song — это событие, а не факт (c. 269-270).
К примерам Вендлера можно добавить примеры из других языков, скажем, французское: Qu'il ait chante cette chanson, est in-vraisemblable— "(Утверждение) что он пел эту песню, невероятно". Здесь неполнота номинализации выражается с помощью употребления наклонения нереальности вместо наклонения реальности — индикатива.
Довольно похожим образом выражается то же самое в русском языке, но в нем возможны вариации:
Что он пел эту песню, — невероятно; Чтобы он пел эту песню, — невероятно.
— второй способ полностью аналогичен французскому. (К одному тонкому различию, выясняющемуся в связи с этими примерами, мы вернемся несколько ниже.)
Итак, факты — это то, для чего наиболее адекватной формой является неполная— и в принципе не могущая быть полной — номинализация предложения-высказывания. В отличие от фактов, наиболее адекватной языковой формой для события является предложение-высказывание или его полная номинализация. Номинализация же — это окказиональное имя. Таким образом, языковой формой для "факта" является нечто, стоящее на полпути, в "промежутке", между именем, с одной стороны, и предложением (пропозицией, высказыванием), с другой.
Не удивительно, что эта специфическая языковая форма соответствует специфическому содержанию. Вендлер очень хорошо выражает это в следующем пассаже (напомним, что "причины— это факты, а не события"):
"...Если причины, подобно следствиям, являются событиями..., то тогда почему же нельзя и помыслить о том, чтобы причины происходили или имели место, о том, чтобы они в определенное время начались, столько-то длились и внезапно закончились? Почему ни один мудрец не может наблюдать или выслушивать причины, ни один ученый не может смотреть на них в телескоп или реагировать посредством сейсмографа..." и т. д. (с. 271). И Вендлер заключает: "Я могу только попросить логиков узако-

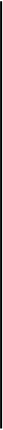
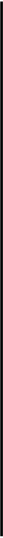
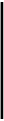 нить существование фактов, введя факт в число тех единиц, которыми они оперируют" (с. 276).
нить существование фактов, введя факт в число тех единиц, которыми они оперируют" (с. 276).
Вернемся теперь к приведенным выше русским и французскому примерам, рассматривая их как один и тот же тип выражений. Языковое выражение "Что он пел эту песню..." (или "Чтобы он пел эту песню...", или его французский эквивалент) — именно в данной выше синтаксической позиции (т. е. так, что за данным выражением следует некая "рамка" — выражение утверждения, сомнения и т.п.) является выражением факта. Но следующая часть всего сложного предложения, т. е. — "...невероятно", "...это невероятно" или даже "...это ложь" либо подтверждает этот факт, либо подвергает его сомнению, либо, наконец, даже опровергает его. Таким образом, в последнем случае мы получаем на первый взгляд абсурдное (во всяком случае, парадоксальное) выражение "Этот факт есть ложь".
Это очень хорошо почувствовал 3. Вендлер. "В английском языке нет слова для обозначения "фактоподобной" сущности, которая является результатом такого абстрагирования. Не говорить же, что предмет вашего утверждения — это "ложный" факт! Ощущается потребность в подобном родовом термине, обозначающем единство референционно эквивалентных пропозиций независимо от того, истинны они или ложны, однако я не могу подобрать приемлемый термин" [Вендлер 1986, 274].
Но начиная с этого пункта рассуждение Вендлера, — я думаю, — направилось по слишком сложному пути, чреватому неясностями и даже ошибками. И причиной тому— английский язык. В английском языке, как мы видели выше на примерах самого Вендлера, наиболее адекватной формой выражения факта является некоторая разновидность (некоторый класс) форм на -ing, но в нем мало употребительны выражения, подобные приведенным русским и нет ничего подобного французским, где "фак-товость" выражается нейтрализацией наклонений — изъятием выражения из сферы реальности и тем самым его переносом в чисто мысленный, "ментальный" мир. Опираясь на формы русского и французского языков, мы прямо приходим к конечному выводу: наиболее адекватной формой для факта служит предикативная связь двух явлений (субъекта и его предиката), выраженная в системе языка, но без соотнесения с реальной действитель-
ностью во времени, т. е. до утверждения или отрицания. Французские философы языка 1970-х гг. удачно выразили это (в другой системе рассуждений) в тезисе, или афоризме "L'inasserte рге-cede et domine 1'asserte" — "Неутвержденная предикация предшествует утвержденной и доминирует над ней".
Но это же самое является и определением для пропозиции. "В связи с этим встает очень сложный вопрос о том, в чем состоит различие между фактами и пропозицией", — замечает Вендлер [Там же, 272]. И он дает по существу верный, но очень сложный ответ (навеянный английским языком): "факты референционно прозрачны, тогда как пропозиции, даже истинные, референционно непрозрачны" [Там же, 272].
И вот его конечное определение (которое мы приведем сначала по-английски): "As propositions are the result of an abstraction from the variety of paraphrastic forms, so facts are the result of a further abstraction from the variety of equivalent referring expressions. A fact, then, is an abstract entity which indiscriminately contains a set of referentially equivalent true propositions" [Vendler, 1967, 711]. Русский перевод (наш, несколько отличающийся от опубликованного): "Подобно тому, как пропозиции представляют собой абстракцию от набора перифрастических форм, так же и факты представляют собой дальнейшую абстракцию от набора референционно эквивалентных выражений. Таким образом, факт — это абстрактная сущность, соответствующая конкретному классу рефереционно эквивалентных истинных пропозиций". (Это определение, очевидно, аналогично определению фонемы: фонема есть класс эквивалентных конкретных звукотипов — аллофонов.)
Но французский и русский языки позволяют достичь этого определения, кажется, более простым путем, более наглядно.
В самом деле, если "Что он пел эту песню" является выражением абстрактной сущности — пропозиции, но также и выражением факта, и если то же самое языковое выражение остается пропозицией в двух высказываниях —
(а) Что он пел эту песню, — это истина (правда, факт);
(б) Что он пел эту песню, — это ложь,

но является выражением факта только в первом из них (в "а"), то отсюда следует, что — выражения "а" и "б" несовместимы в рамках одного и того же рассуждения, т. е. в рамках употребления одного и того же языка (в данном случае, русского) в одной и той же системе рассуждений, в одном и том же тексте. Таким образом, факт есть пропозиция, истинная в рамках одного данного текста, который представляет собой особый случай употребления некоторого языка, особый "подъязык", или, как мы уже сказали выше [1] -дискурс.
Обычно в связи с подобными рассуждениями о "фактах"
(совершенно справедливыми) упоминают также концепт "причи
ны" и приводят знаменитый пример с трагедией Софокла "Эдип-
Царь". Рассматривают причину трагедии Эдипа: является ли ею
то, что Эдип женился на женщине по имени Иокаста (которая в
действительности была его матерью, но Эдип этого не знал), или
же причиной является то, что Эдип женился на своей матери. Мы
приходим к ответу (иному, чем у Вендлера), следуя по намечен
ному выше пути. Выражение "Эдип женился на женщине по име
ни Иокаста" принадлежит миру Эдипа и греческому языку и —
одновременно "подъязыку" этого языка, которым пользовался
Эдип и его окружение. Что касается выражения "Эдип женился
на своей матери", то оно принадлежит также греческому языку,
но иному миру — миру "всеобщего, универсального знания", ко
торым обладали боги, но не Эдип и его близкие, и это иной
"подъязык" греческого языка. В языке Эдипа (в его "подъязыке")
это выражение вообще лишено смысла. Трагедия Эдипа наступа
ет в тот момент, когда оно внезапно переходит от своего мира к
миру универсального знания. Первое из приведенных выражений
является "выражением факта" (или: "выражением для факта") в
другом языке. Но оба выражения принадлежат греческому языку
и являются в нем выражением эквивалентных пропозиций. (Мы
вернемся к концепту "Причина" ниже, в пункте 3.)
Итак, "факт" есть результат представления некоторого действительного "положения дел" в системе данного языка, причем под "языком" необходимо понимать то, что сказано об этом выше. Нет фактов вне мира, но нет фактов и вне языка, описывающего данный мир.
Но тем самым у всех лингвистов и философов языка есть право сказать, что открыта новая категория — "факт".
"Я всецело присоединяюсь к предположению Дэвидсона, — говорит Вендлер в упомянутой работе, — что события следует относить к первичным элементам онтологии причинных отношений. В то же время мне бы хотелось сделать и следующий шаг в этих метафизических построениях, добавив к первичным элементам еще один, а именно факт. Языковое выражение причинных отношений, подобно многим другим языковым сферам, заставляет предположить, что факты, наряду с объектами и событиями, также составляют первичную категорию нашей естественной онтологии. Многим из нас, привыкшим к строгим пустынным пейзажам, такое размножение первичных элементов покажется отталкивающим. К сожалению, джунгли есть джунгли, нравится нам это или нет" [Вендлер 1986, 264].
В заключение напомним, в какой ряд категорий вписывается обрисованная таким образом категория "Факт". — Конечно, не в ряд категорий Канта. Категория "Факт" продолжает ряд лингво-логических, или лингво-философских Категорий Аристотеля. Вот этот ряд (левая колонка — современный русский перевод, правая — традиционный латинский перевод с древнегреческого)
1. Сущность (субстанция) Substantia
2. Количество Quantitas
3. Качество Qualitas
4. Отношение (Соотнесенное) Relatio
5. Где? (Место) Ubi
6. Когда? (Время) Quando
7. Положение Situs
8. Обладание (Состояние) Habitus
9. Действие Actio
10. Претерпевание (Страдание) Passio
— и мы завершаем теперь этот список, -
11. Факт — Factum.

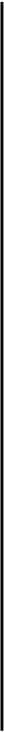
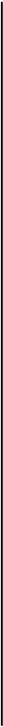 (Анализ десяти Категорий Аристотеля в лингво-филоеоф-ском ключе можно найти в нашей книге "Имена. Предикаты. Предложения", — см. [Степанов 1981].)
(Анализ десяти Категорий Аристотеля в лингво-филоеоф-ском ключе можно найти в нашей книге "Имена. Предикаты. Предложения", — см. [Степанов 1981].)
