Игнатием Антиохийским и богословием апостола Иоанна
Апостол Павел не эллинизирует христианство, но подготовляет его эллинизацию.
Как это следует понимать?
Павел не заимствует никаких эллинистических представлений. Его мистика единения со Христом и его учение о таинствах целиком и полностью проистекают из эсхатологических идей. Но в этой мистике и в связанной с нею концепции таинств христианская вера обретает такую форму, в которой она становится поддающейся эллинизации.
Чем больше мы углубляемся в проблему эллинизации христианства, тем более поразительным предстает то, что в течение считанных десятилетий произошло с христианской верой. Что общего между спиритуалистически ориентированным греческим мышлением, постоянно движимым — при всей своей жажде бессмертия — потребностью в логике, и иудейским ожиданием надмирного Царства и его Владыки? Как может Иисус, претендент на этот престол, выступать Спасителем в представлениях эллинистической религиозности, притом именно в то время, когда он ввиду явной анахроничности идеи такого ожидания должен был утратить всякое значение?
Раннехристианская вера как таковая, то есть как вера в скорое наступление Царства Божия, в Иисуса-Мессию, в Его искупительную смерть, а с последующим воскресением и в спасительное воздействие крещения, как его понимала первохристианская община, эллинизации не поддается. Процесс исторического развития зарождавшегося христианства складывался, однако, таким образом, что вера в Иисуса и в искупление через таинства продолжала сохраняться даже и после того, как пошатнулась вера в скорое наступление Царства Божия, частью которой она была. Сама по себе часть, однако, может по-прежнему существовать только в том случае, если она станет неким новым целым со своей собственной жизнью. И то, что она смогла стать такой, какой реально стала, было делом ап. Павла.
Можно, вероятно, вполне обоснованно полагать, что вера в Иисуса Христа под давлением необходимости и под воздействием присутствующей в ней религиозной и этической силы смогла бы, после того как иссякло эсхатологическое ожидание, утвердиться в мире и без ап. Павла. Но то, что это происходит как нечто столь само собой разумеющееся, и особенно то, что эта долженствующая стать само собой разумеющейся вера оказывается в состоянии обрести логическое обоснование в греческом мышлении, восходит в своих истоках к трансформации, которую она претерпевает у ап. Павла. Павел связывает искупление, воспринимаемое им как наследие Царства Мессии, с личностью Иисуса Христа и делает это таким образом, что по мере все большего ослабления надежды на приход Мессии оно продолжает существовать для грядущих поколений просто как спасение через сопричастность Христу.
В раннехристианской вере спасение мыслилось связанным с Иисусом Христом лишь постольку, поскольку последний, являясь Владыкой Царства Божия, своей смертью сделал возможным отпущение грехов, необходимое для того, чтобы войти в это Царство. Таким образом, искупительная роль Иисуса полностью зависит от значимости эсхатологии и предстает обреченной разделить участь последней. Но у Павла связь искупления с Иисусом гораздо более тесна, хотя логически оно еще полностью предопределено эсхатологией. Из веры в Христа возникает единение с ним. Тем самым искупление ставится в такую связь с личностью Иисуса Христа, при которой его сущность определяется им в гораздо большей степени, чем в раннехристианской вере. Вместе с тем у ап. Павла представление об искуплении выглядит уже не просто как уверенность в возможности обретения Царства Божия, а как воскресение ради него. Идея воскресения связывается с мыслью о единении со Христом и этим единением обосновывается. Тем самым в условиях, когда ожидание Царства Мессии отходит на задний план, вера в спасение через Христа получает возможность утвердиться в качестве веры в воскресение через Христа. Возвестив, что «мертвые во Христе» воскреснут уже при Втором пришествии Его (1 Фесс. 4, 16), ап. Павел — при том, что сам он все еще полностью остается во власти эсхатологических ожиданий, — становится отцом эллинизированной религии ниспосланного Христом бессмертия. Эту близящуюся эллинизацию он подготавливает также тем, что объясняет таинства идеей общности со Христом и таким путем увязывает их с ожиданием воскресения[223]. Наряду с этим ап. Павел объясняет воздействие таинства спасения на грядущее Царство мистикой бытия во Христе, утверждая, что оно сообщает способность воскресения для участия уже в Царстве Мессии, а не только по исходе его. Тем самым он закладывает основу для восприятия Евхаристии как трапезы бессмертия — восприятия, получившего затем свое дальнейшее развитие у Игнатия Антиохийского.
Таким образом, в не поддающуюся эллинизации веру во Христа как дарителя мессианского Царства ап. Павел привносит выводимую из нее веру в воскресение через бытие во Христе. А такая вера в Мессию как дарителя воскресения и в таинства, обеспечивающих бытие во Христе и тем самым воскресение, уже может быть эллинизирована. В ней эллинизм черпает поддающуюся логическому обоснованию уверенность в бессмертии и представление о мистериях, которые надежным образом сообщают это бессмертие. Эсхатологическая мистика, следовательно, создает доступное эллинизации понимание происходящего через Христа искупления.
Эллинизация христианства совершается незаметно. Вера в Христа как дарителя воскресения складывается в эллинистической логике, не вступая в противоречие с эсхатологическим ожиданием, которое обволакивает ее подобно обреченной на увядание и отмирание оболочке. Но дело обстоит и не так, что эта вера начинает эллинизироваться лишь в тот момент, когда становится очевидным бессилие эсхатологических надежд. Малоазийское богословие на стыке I и II столетий и в начале II столетия по Р. X. берет на себя труд эллинизации веры в воскресение через Христа, хотя ожидание Второго пришествия Иисуса, как показывают сохранившиеся свидетельства, еще имеет для нее большое значение.
В своем Послании к Ефесянам, написанном около 110 года по Р. X., Игнатий настаивает на том, что «последние времена» (  ) уже наступили (Игн. к Еф. 11, 1)[224].
) уже наступили (Игн. к Еф. 11, 1)[224].
Для епископа Смирнского Поликарпа, примерно в то же время писавшего Послание к Филиппинцам, воскресение означает еще и единение со Христом для царствования вместе с Мессией в Его Царстве (Полик. к Фил. 5,2).
Папий, епископ Фригии, живший в середине II столетия по Р. X., в своей вере настолько дви-
жим эсхатологией, что Евсевий Кесарийский (Ист. церкв. III, 39) позднее пренебрежительно относился к нему из-за его хилиазма 1.
О том, что для Юстина, тесно связанного своим учением о Логосе с малоазийским богословием, ожидание Второго пришествия является еще в середине II века по Р. X. живой частью христианского учения, свидетельствуют усилия, которые он прилагает в диалоге с Трифоном, стремясь убедить оппонента в том, что им обнаружено у иудейских пророков предсказание двукратного пришествия Христа (одно в ипостаси земной ничтожности и другое — во славе Мессии). О том, что значит для него эсхатология, свидетельствуют его слова, обращенные к Трифону: «Короткое время остается вам для вашего обращения, и если Христос предварит вас Своим пришествием, то напрасно будете каяться, напрасно плакать, ибо Он не услышит вас» (Диал. 28, 2).
Юстин — хилиаст. Он ожидает, что избранные будут тысячу лет жить со Христом в новом Иерусалиме. «А я и другие здравомыслящие во всем христиане знаем, что будет воскресение тела и тысячелетие в Иерусалиме, который устроится, украсится и возвеличится, как объявляют то Иезекииль, Исаия и другие пророки» (Диал. 80, 5; см. также: Диал. 139, 4—5). В подкрепление своего учения о тысячелетнем Царстве Юстин ссылается на Откровение ап. Иоанна (Диал. 81, 4; Откр. 20, 4—6), не отдавая себе отчета в том, что, согласно этому последнему, в тысячелетнем Царстве его сопричастниками будут только избранные верующие во Христа, в то время как, согласно его собственным воззрениям, подобное же воскресение, а тем самым и причастие Царству будет доступно и тем, кто жил до Христа.
Насколько сильно еще эсхатологическое ожидание в малоазийской церкви и в середине II века по Р. X., показывает возникновение монтанизма. Это зародившееся в Мизии энтузиастическое движение снова всерьез обращается к вере в непосредственную близость Царства в первохристианском духе.
О том, что промедление со Вторым пришествием Господа порождало сомнения относительно наступления мессианского Царства, нам известно уже из новозаветных Посланий. Так, Послание к Евреям призвано внушить верующим необходимость не отрекаться от надежды, а, напротив, держаться ее до конца (Евр. 6, 11—12; 10, 23; 10, 35; 12, 12—14).
Во втором Послании ап. Петра по адресу «наглых ругателей», утверждающих, что Второе пришествие Христа вообще не наступит, высказывается возражение, что понятие времени для Бога не совпадает с понятием времени для людей, ибо тысяча лет для Него, как один день. Если Бог медлит с пришествием Христа, то делает это по своему долготерпению, стремясь дать людям время для покаяния (2 Петр. 3, 4—9).
Согласно Посланию ап. Иуды, сомнение «ропотников» в грядущем искуплении из-за его промедления является как раз признаком того, что час его уже близок, ибо, по слову апостолов, «ругатели» должны появиться в «последнее время» (Иуд. 17—23).
Юстин тоже вынужден признать, что уже не все верующие живут в ожидании нового Иерусалима: «Впрочем, как я тебе говорил, есть многие из христиан с чистым и благочестивым настроением, которые не признают этого» (Диал. 80, 2). Фрагмент диалога, на который Юстин здесь ссылается, утрачен.
В общем, можно, пожалуй, предположить, что почти до середины II века по Р. X. по крайней мере в малоазийской церкви, о которой мы узнаем от Игнатия, Поликарпа и Папия, эсхатологическая надежда была еще живым элементом христианской веры. То, что в евхаристических молитвах и в благодарственных молитвах после Евхаристии, известных нам по Дидахе (9 и 10), ожидание Царства и Второго пришествия Христа ежевоскресно провозглашалось с прежним пылом, вероятно, во многом содействовало тому, что ожидание это вопреки всем сомнениям, порожденным задержкой призываемых событий, попрежнему не утратило значения для верующих.
Однако для объяснения эволюции христианской веры отнюдь не столь важно установить, в какой мере еще сохраняется в тот или иной данный момент

Слова об удивительном плодородии виноградной лозы в мессианском Царстве приводятся Папием как принадлежащие Иисусу. См. об этом с. 296.
29—282
подлинно живое эсхатологическое ожидание. Эллинизация веры в ниспосылаемое со Христом воскресение неизбежно начинается гораздо раньше заметных колебаний эсхатологической надежды. Вера в наступление Царства Мессии — дело чистого ожидания. Напротив, уверенность в воскресении, даруемом людям общностью со Христом, есть нечто такое, что можно вывести логически. Следовательно, с этого логически обоснованного постулирования указанной уверенности начинается работа умозрительного подкрепления христианской надежды. Если уверенность в воскресении логически обоснована, то тем самым подтверждено и сопричастие мессианскому Царству.
И вопрос здесь не в том, как долго эсхатологическое ожидание еще будет сохранять свое значение, а в том, как долго оно еще будет столь значимо, чтобы определять собой логику веры в воскресение на основе единения со Христом. Такой подход имеет место только у ап. Павла. Только у него уверенность в воскресении для Царства Мессии обосновывается тем, что верующие уже умерли и воскресли со Христом, ибо воскресение Иисуса открывает счет мессианскому времени мира, то есть времени воскрешенных, обретающих в вере сопричастие образу бытия воскресших при Его Втором пришествии. Для следующих за ап. Павлом приверженцев умозрительной веры это обоснование уверенности в воскресении оказывается уже невозможным. Их эсхатологическое ожидание, даже если оно в остальном еще столь же живо, уже не обладает температурой, необходимой для переплавки его в эсхатологическую мистику. Нужные условия наличествуют только тогда, когда воскресение Иисуса воспринимается верующими как начало воскресения смертных с той непосредственностью, которая способна убедить их в том, что они пребывают в состоянии перехода к бытию воскресших. Когда же верующие уже не сознают себя поколением, достигшим «последних веков» (1 Кор. 10, 11) и сподобившимся причаститься Царству Мессии, — превращение эсхатологического ожидания в эсхатологическую мистику соумирания и совоскрешенности со Христом более невозможно. И тогда воскресение через Христа, если оно утверждается не с опорой на формулы ап. Павла, должно истолковываться в русле новой, неэсхатологической логики. Но это неэсхатологическое обоснование с необходимостью носит эллинистический характер.
Утверждение Альбрехта Ричля о том, что раннехристианской вере не требовалось быть ни эсхатологической, ни эллинистической, ибо реально она бы
ла в самом себе определенным и самодостаточным мировоззрением, — это лишь констатация затруднительного положения, но именно опираясь на это утверждение, исследователи пытались решить все проблемы прежней истории догматики. На самом деле после Павла ситуация складывалась таким образом, что его учение о бытии во Христе и вытекающей отсюда вере в воскресение для Второго пришествия Мессии неизбежно должно было утратить силу своего воздействия без нового обоснования, почерпнутого в эллинистическом мышлении.
Обновителем мистики бытия во Христе в рамках соответствующей времени логики выступает Игнатий Антиохийский.
На стыке столетий, то есть спустя одно поколение после смерти ап. Павла, его идеи стали играть в малоазийской церкви определяющую роль. Об этом свидетельствуют Послания, которые Игнатий по пути в Рим, куда он направляется, чтобы принять мученичество во имя Христа, адресует Поликарпу, ефесянам, магнезийцам, траллийцам, римлянам, филадельфийцам и смирнянам, а также относящиеся к этому времени Послания Поликарпа к Филиппийцам. Уже римский епископ Климент в своем написанном около 90 года по
Р. X. Послании к Коринфянам выказывает знакомство с деятельностью Павла.
Он напоминает этой общине о том, что блаженный апостол Павел письменно обращался к ней, и обнаруживает при этом осведомленность о содержании его Посланий (1 Клим. 47); он употребляет формулу «во Христе» 1; он объявляет власти ниспосланными Богом, как это делает и Павел в Послании к Римлянам (1 Клим. 61).
Однако Игнатий и Поликарп в гораздо большей степени находятся под влиянием ап. Павла. Они живут его Посланиями.
В своем Послании к Ефесянам (Игн. к Еф. 18, 1 ) Игнатий соотносит вопрос «Где мудрец?» с первым Посланием к Коринфянам ап. Павла (1 Кор. 1, 20); в другом месте того же Послания (Игн. к Еф. 19, 1) он, намекая на 1 Кор. 2, 8, говорит о неведении князя века сего относительно смерти Иисуса; в Игн. к Маг. 10, 2 он, следуя 1 Кор. 5, 6—8, призывает удалить «худую закваску»; в Игн. к Смирн. 4, 2 он в соответствии с Фил. 4, 13 упоминает Христа как источник силы; в Игн. к Полик. 5,
1—2 он обсуждает проблему брака и безбрачия в духе суждений, содержащихся в 1 Кор. 7 и Еф. 5, 25—29.
В своем Послании к Филиппийцам (Полик. к Фил. 3, 2) Поликарп напоминает этой общине о Посланиях (!), которые писал им ап. Павел; со ссылкой на 1 Кор. 6, 2 он внушает им, что «святые будут судить мир», «как учит Павел» (Полик, к Фил. 11, 2).
И Игнатий, и Поликарп постоянно употребляют формулу «во Иисусе Христе». Игн. к Еф. 8, 2: «вы все делаете во Иисусе Христе». — Игн. к Еф. 10, 13: «пребывали во Иисусе Христе». — Игн. к Еф. 11, 1: «найтись нам в Христе Иисусе для истинной жизни». — Игн. к Маг. 6, 2: «любите друг друга во Иисусе Христе». — Игн. к Маг. 10, 2: «осолитесь в Нем (Иисусе Христе)». — Игн. к Маг. 12, 2: «Иисуса Христа имеете в себе». — Игн. к Трал. 13, 2: «укрепляйтесь во Христе Иисусе». — Игн. к Рим. 1, 1: «связанный во Христе». — Игн. к Рим. 2, 2: «Воспойте хвалебную песнь Отцу во Христе Иисусе». — Игн. к Филад. 5, 1: «в узах пребывающий во Христе». — Игн. к Филад. 10, 1: «по любви, которую имеете во Христе Иисусе». — Игн. к Филад. 10, 2: «блажен во Иисусе Христе». — Игн. к Филад. 11, 2: «прощены во Христе Иисусе». — Полик. к Фил. 1, 1: «сорадовался вам в Господе нашем Иисусе Христе». — Полик. к Фил. 14, 1: «благоденствуйте в Господе Иисусе Христе».
Да и то, что Игнатий постоянно говорит о вере и любви как о единении, тоже становится понятным лишь в контексте представления ап. Павла о вере, действующей любовью (Гал. 5, 6).
Так и прямыми ссылками на ап. Павла, и реминисценциями языкового и содержательного характера Игнатий и Поликарп обнаруживают свою сильнейшую зависимость от него. Но в этих ссылках они, как ни странно, и серьезно ограничивают себя. Никогда они не приводят слов, характерных для мистической логики ап. Павла! Никогда они в своей аргументации не апеллируют к представлению о смерти и воскресении верующих со Христом!
Таким образом, Игнатий и Поликарп заимствуют у ап. Павла только общую формулу его мистики, но не подлинное ее содержание. И перед этой загадкой останавливались в нерешительности все ученые. Они не в состоянии были добиться ясности в вопросе об отношении Игнатия к ап. Павлу, поскольку оставались в неведении относительно самого Павла. Если предположить, что идеи ап. Павла носят некоторым образом эллинистический характер, то тогда отношение к ним Игнатия невозможно понять. Если же учесть, что они эсхатологически предопределены мыслимым только во времена Павла образом, то тогда находится естественное объяснение того, почему Игнатий не может их принять и, несмотря на свое знакомство с Посланиями ап. Павла, вынужден ограничиться частичным их заимствованием, усвоив в самом общем виде концепцию искупления как мистического переживания единения со Христом и приводя лишь ее формулу «во Христе». Эту позаимствованную в отрыве от содержания форму он в соответствии с духом времени должен наполнить эллинистическим содержанием. И он осуществляет это при посредстве учения

1 Клим. 48: «праведность во Христе»; 1 Клим. 49: «любовь во Христе».
29*
о соединении Духа и плоти, совершающемся через Церковь и через общность со Христом и дарующем воскресение верующим.
Поскольку и в мистике ап. Павла воскресение трактуется как действие Духа, учение Игнатия предстает как упрощение учения Павла, достигнутое изъятием представления о соумирании и совоскрешенности со Христом. И тогда можно понять, как может чувствовать себя Игнатий в качестве продолжателя учения ап. Павла, не отдавая себе отчета в том, что он заменил изначальную логику его мистики новой логикой.
Как бы там ни было, но представление о Духе и о существовании связи между обладанием Духом и воскресением в обоих случаях совершенно различно.
У ап. Павла верующий обладает Духом потому, что он умирает и воскресает со Христом; у Игнатия он обретает его как природный человек. Мысль о том, что в единении со Христом воскресение уже началось, вытесняется более простой идеей о том, что оно подготовляется Духом. Учение о том, что обладание Духом предопределяет воскресение, и есть, следовательно, тот занавес, за которым происходит трансформация эсхатологической мистики в мистику эллинистическую.
То, что у Игнатия речь идет не только об упрощении, но и об изменении учения ап. Павла, находит свое подтверждение в невозможности для него следовать Павлу в его противопоставлении плоти и Духа. У Павла воскресение подготовляется таким образом, что плоть через смерть и воскресение со Христом уничтожается, а Дух соединяется с телесностью души, делая ее способной при Втором пришествии Христа тотчас облачаться телом славы[225]. Для Павла соединение Духа и плоти немыслимо. Игнатий, напротив, должен его утверждать. Перед лицом гностико-спиритуалистической концепции бессмертия как возвращения духовного к первооснове этого духовного ему приходится отстаивать веру в телесное воскресение в том виде, в каком христианство позаимствовало ее из позднеиудейской эсхатологии. Единственная возможность сделать телесное воскресение постижимым в рамках эллинистического мышления — это принять представление, в соответствии с которым плоть становится способной обрести нетленность через действие Духа[226]. Другими словами, чтобы сохранить разделяемое также и ап. Павлом изначальное — эсхатологическо-христианское — представление о воскресении, Игнатий должен вопреки Павлу трактовать плоть как нечто поддающееся преображению, а не как нечто преходящее и бренное, несущественное для воскресения. Это воззрение является для него настолько само собой разумеющимся, что он неосознанно выдает его за воззрение ап. Павла.
У Павла, таким образом, Дух соединяется с духовной индивидуальностью человека, у Игнатия — с его плотской телесностью.
Вкладывая свое эллинистическое представление о плоти и Духе в формулы мистики ап. Павла, Игнатий приходит к утверждениям, которые звучат как постулаты ап. Павла, но на деле в таковом качестве немыслимы.
Игн. к Еф. 8, 2: «И то, что вы делаете по плоти у вас духовно, потому что вы все делаете во Иисусе Христе». — Игн. к Еф. 10, 3: «Пребывайте во Христе телесно и духовно». — Игн. к Трал. 8, 1: «Утвердите себя взаимно в вере, которая есть плоть Господа, и в любви, которая есть кровь Иисуса Христа».
Следовательно, эллинизация христианства Игнатием и малоазийским богословием состоит в том, что они перенимают у ап. Павла мистику бытия во Христе как адекватную формулировку христианского учения об искуплении, но объясняют ее, отталкиваясь не от эсхатологического представления о смерти и воскресении со Христом, а от эллинистической идеи единения плоти и Духа
(Игн. к Маг. 13, 2: 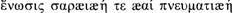 ).
).
Благодаря этому представлению о единении плоти и Духа становятся постижимыми: 1) соединение божественного и человеческого в личности Иисуса; 2) совершение через это искупления; 3) их опосредующее действие через таинства.
В личности Иисуса Христа Дух впервые соединяется с плотью. Тем самым создается ранее не осуществимая возможность того, что плоть воспримет в себя силы нетленности и станет способной к воскресению. Следовательно, спасительное деяние Иисуса Христа состоит для этого эллинистически мыслящего христианства в том, что он приходит в мир как воплощение единства духовного и телесного и тем самым основывает ведущее к воскресению избранных единение плоти и Духа. Игнатий, правда, говорит и об искупительном значении крестной смерти и воскресения. Однако смерть и воскресение Иисуса делают у него очевидным только искупление, природным образом данное в виде явления Иисуса Христа. У Павла смерть и воскресение Иисуса творят искупление потому, что здесь умирает будущий Мессия. Его смерть есть искупительная жертва для избранных и одновременно, поскольку она не властна над ним как над предсущим, как над будущим Мессией, она имеет следствием его воскресение и тем самым наступление времени воскрешенных.
У Павла, следовательно, Иисус создает возможность воскресения тем, что приближает время воскрешенных; у Игнатия он делает это, допуская пресуществление в своей личности прежде не имевшихся природных предпосылок воскресения. Различие достаточно глубоко. Внешне, однако, оба подхода сближает то, что и в том и в другом случае гарантом воскресения является Дух Иисуса.
Подобно тому как совершенно различно у них обоснование искупления, хотя Игнатий и считает, что он всего лишь повторяет мысли ап. Павла, неодинаково и их понимание опосредующей роли таинств. У Павла верующий переживает через таинства то же самое, что и Христос. Через их посредство Христос вступает в единение с ним для смерти и воскресения. Согласно упрощенной логике эллинистической мистики, он достигает тем самым того, что Дух соединяется с его плотским телом. Игнатий имеет то общее с ап. Павлом, что таинства творят у него то же самое искупление, какое проистекает из мистики бытия во Христе.
В то время как у ап. Павла трапеза Господня находится в тени крещения, в эллинистической мистике Игнатия соотношение между ними, напротив, таково, что крещение в известной мере является лишь введением к причащению. Именно в Евхаристии находит свое выражение для Игнатия процесс перенесения и усвоения искупления. В хлебе и вине единство материального и духовного осуществляется так же, как и в телесности Иисуса. Они продолжают существование Спасителя в поддающейся усвоению форме[227].
Как и у ап. Павла, у Игнатия мистика бытия во Христе коренится в представлении о предсущей Церкви[228]. Если у ап. Павла сообща пережитые избранными смерть и воскресение со Христом — результат предопределенного единения их друг с другом и с Ним, то у Игнатия это выступает как их причастность к воплощенному в личности Иисуса единству Духа и плоти. Только там, где появляется предсущая Церковь, это возвещаемое Иисусом чудо искупления обнаруживает себя в таинствах.
Не всякая объявляющая себя христианской община принадлежит к истинной Церкви. Мы можем говорить о таковой только там, где поддержанием традиций учительства и следованием епископальной организации сохраняется связь с восходящей к Иисусу апостольской церковью и вера в чудо единения плоти и Духа.
Одной из предпосылок такой веры является правильное представление о личности Иисуса. Гностическо-докетическое учение допускает лишь внешнюю, преходящую (от крещения до смерти) связь Духа с плотским телом Иисуса. Соответственно для этого учения невозможно и предположение о воскресении плоти. В итоге эти лжеучителя приходят к выводу, что искупление состоит в возвращении духовного к первооснове этого духовного. Однако, согласно передаваемому апостолами учению, человек как таковой должен через бессмертие войти в славу Божию. Эта концепция искупления мыслима лишь тогда, когда предполагается, что соединение у Иисуса Духа с плотью было органичным и что оно продолжается. Только если Он от рождения Своего являл собой единство Духа и плоти и воскрес в непреходящем теле плоти, он может совершить истинное искупление, то есть предвозвестить плотски-телесное воскресение. Именно это имеет в виду Поликарп, когда говорит: «Всякий, кто не признает, что Иисус Христос пришел во плоти (  ), есть ан-
), есть ан-
тихрист» (Полик. к Фил. 7, 2). Поэтому и все, что говорится в Духе, следует признать не исходящим от Бога, если этот Дух не исповедует истинное понимание личности Иисуса.
1 Иоан. 4, 1—3: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти ( 
 ), есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире»[229].
), есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире»[229].
Если у ап. Павла верующий отпадает от Христа из-за принятия Закона и обрезания (Гал. 5, 4), то в эллинистическом богословии это происходит из-за недостаточно ясного представления о соединении Духа с плотью в личности Иисуса. Эллинистическое богословие не вправе больше считать, что Иисус сам полагает через смерть и воскресение стать Мессией и что еще у ап. Павла он достигает этого лишь через смерть и воскресение. Профетическое понимание мессианства уходит своими корнями в эсхатологическое мышление и, подобно мистике ап. Павла, становится невозможным по мере того, как эсхатологическое мышление превращается просто в эсхатологическое ожидание.
Сущность Церкви как сферы, где осуществляется единение плоти и Духа, составляет любовь. Как для ап. Павла, так и для Игнатия любовь — метафизическая величина. В любви избранные связаны между собой и с Хри
стом, а через Него и с Богом. В каком-то смысле, однако, и соединение Духа с материально-телесным, а равно и следующее из него возвышение плоти до непреходящего тоже суть проявления любви. Бытие во Христе становится у Игнатия бытием в любви.
Следовательно, Церковь у Игнатия — мистическое понятие, проистекающее из представления о предсущей Церкви и из метафизической концепции любви. Эсхатологическое умозрение ап. Павла, касающееся Церкви, эллинизируется и получает дальнейшее развитие.
Как на промежуточную ступень между умозрительными рассуждениями ап. Павла и Игнатия
о Церкви можно указать на Послание к Ефесянам, где слова «и будут двое одна плоть» (Быт. 2, 24) воспринимаются как тайна, которую можно считать намеком на общность Христа с Церковью (Еф. 5, 31—32). Здесь любовь некоторым образом предпосылается как метафизическая величина. За тайной природного единства Христа с Церковью начинает вырисовываться тайна единения плоти и Духа.
Только в истинной Церкви происходит слияние Духа с плотью! Только в ней Дух соединяется с водой при крещении и с хлебом и вином при Евхаристии во имя достижения нетленности плоти верующих!
Игн. к Филад. 4: «Итак, старайтесь иметь одну евхаристию. Ибо одна плоть Господа нашего Иисуса Христа и одна чаша в единение Крови Его, один жертвенник, как и один епископ с пресвитерством и диаконами, сослужителями моими, дабы все, что делаете, делали вы о Боге».
Игн. к Смирн. 8, 1—2: «Только та евхаристия должна почитаться истинною, которая совершается епископом или тем, кому он предоставит это... Непозволительно без епископа ни крестить, ни совершать вечерю любви».
Игн. к Маг. 13, 2: «Повинуйтесь епископу и друг другу, как Иисус Христос повиновался по плоти Отцу, и апостолы Христу. Отцу и Духу, дабы единение было вместе телесное и духовное».
Изменение представления о бытии во Христе и отход на задний план эсхатологии имеет следствием то, что мистика Игнатия в отличие от мистики ап. Павла уже больше не является в столь исключительной степени мистикой бытия во Христе. В то время как у ап. Павла верующий до наступления вечного блаженства пребывает только во Христе, не пребывая одновременно и в Боге, у Игнатия уже проступает мысль о том, что бытие во Христе сообщает верующему бытие в Боге[230].
К представлению о возрождении Игнатий еще не пришел. Но место для такого представления уже имеется, так как концепция ап. Павла о новом состоянии как о предвосхищенном воскресении уже отринута[231].
Учение о Христе как о Логосе является для Игнатия уже чем-то знакомым. Он называет Христа Сыном Божиим, Который есть Его Логос, из молчания нисшедший, и Который во всем благоугодил Пославшему Его (Игн. к Маг. 8, 2). Но он развивает мистику бытия во Христе, не подчеркивая, что действующий в таинствах Дух идентичен Логосу или из него исходит. Этого он не делает, вероятно, так как находится еще под столь сильным влиянием ап. Павла, что придерживается того представления о Духе, которое характерно для последнего. Но, по сути дела, христианско-эллинистическое учение об искуплении не имеет ничего общего с учением о Логосе как Слове Божием. Выводимая из мысли о единении плоти и Духа мистика единения со Христом представляет собой замкнутый в себе и самодостаточный круг идей, восходящих к эллинистическому толкованию мистики ап. Павла вне зависимости от идентификации Логоса с предсущим Мессией. То, что впоследствии с ней связывается представление о Христе как носителе Логоса, ничего в ней не меняет. Следовательно, столь активно отстаиваемая точка зрения, будто представление греческой церкви об искуплении выработано в недрах учения о Логосе, не соответствует реальности.
Следует заметить, что уже ап. Павел мог бы отождествить Христа с Логосом. Для того, кто, подобно ему, находится во власти идеи предсущего Христа в столь сильной степени, что распознает его в дарующей воду скале в пустыне, и чье представление о Духе таково, что Дух он считает способным даровать и манну, и воду из скалы в пустыне, применение представления о Логосе к Христу и Духу само по себе является вполне возможной вещью. Путь к учению о Логосе пролегал через иудейское представление о действии Мудрости и Слова Божиего. Как легко было идти по нему, показывает Филон. И насколько близок к нему ап. Павел, видно из следующих его слов: «Один Господь Иисус Христос, Которым все, и мы им» (1 Кор. 8, 6). Но он тем не менее не вступает на этот путь, ибо его мысль ориентирована эсхатологически. Как связать достоинство Христа и действие Духа с греческими представлениями, это его не интересует, ибо он занят единственно обоснованием того значения, какое имеют для искупления смерть и воскресение Иисуса как события, с которых начинаются сверхприродное время мира и воскресение из мертвых.
Только когда христианская вера перестает мыслить эсхатологически, ограничиваясь всего лишь эсхатологическими ожиданиями, для нее становится более или менее значимым представление о Логосе. То, что она может воспринять его, связано со становлением мистики единения плоти и Духа.
Юстин и Евангелие от Иоанна продолжают дело Игнатия, вводя эллинистическую мистику единения со Христом в учение об Иисусе Христе как носителе Логоса.
Вклад Юстина, насколько можно судить по сохранившимся полемическим и апологетическим писаниям его, незначителен. Его устремления направлены главным образом на доказательство того, что Логос заявлял о себе устами патриархов, пророков и греческих мудрецов и вообще был силой, через которую действовал в мире Бог, но что во всей своей полноте и законченной связи с человеческой личностью он проявился лишь во Христе.
Диал. 61, 1: «Как начало прежде всех тварей Бог родил из Себя Самого некоторую разумную силу, которая от Духа Святого называется также то славою Господа, то Сыном, то премудростию, то ангелом, то Богом, то Господом и Логосом... Ибо Он имеет все эти названия и от служения Своего воле Отеческой и от рождения по воле Отца». (См. также: Диал. 113, 4—5.)
Мистика единения плоти и Духа у Юстина предполагается, но не излагается. С некоторой подробностью он касается лишь выводимых из нее таинств.
Крещение он определяет как омовение при возрождении и отпущении грехов.
Диал. 138, 2: «Христос, перворожденный всей твари, сделался также началом нового рода.
возрожденного Им посредством воды и веры и дерева, содержащего таинства креста, подобно как Ной спасся на древе, плавая по водам с семейством своим».
1 Апол. 61: «Потом мы приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как сами мы возродились, то есть омываются тогда водою во имя Бога-Отца и владыки всего, и Спасителя нашего Иисуса Христа, и Духа Святого... Так как мы не знаем первого своего рождения и по необходимости родились из влажного семени чрез взаимное совокупление родителей... то, чтобы не оставаться над чадами необходимости и неведения, но чадами свободы и знания и чтобы получить нам отпущение прежних грехов, — в воде именуется на хотящем возродиться и раскаявшемся во грехах имя Отца всего сущего и Владыки Бога... А омовение это называется просвещением, потому что просвещаются духом те, которые познают это».
Данное ап. Павлом толкование крещения как умирания и воскресания со Христом Юстин в состоянии столь же мало разделять, как и Игнатий. Ему приходится объяснять его действием соединяющегося с водой Духа. Как он мыслит это себе более конкретно, мы не знаем.
В какой-то мере он придерживается мнения, что крещение своим действием обязано смерти Иисуса. Поэтому в Диал. 138, 2 он соотносит крестное древо с водой. Сходный взгляд передают слова Игнатия о том, что Иисус Христос рожден и крещен для того, чтобы своим страданием очистить воду (Игн. к Еф. 18, 2).
В отношении Евхаристии Юстин высказывает предположение, что Логос соединяется с освященными благодарением первоначалами таким же образом, как с Плотью и Кровью Христа-Логоса, ставшего телесным, и что эта еда и это питье, «преобразуясь» ( 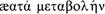 ), питают плоть и кровь верующих (1
), питают плоть и кровь верующих (1
