Xii. коменский и восприятие розенкрейцерства в богемии
Ян Амос Коменский, или Комений, родившийся В 1592 г., был на шесть лет моложе Иопиша Bалентина Андреэ, чьи произведения и взгляды оказали на него сильнейшее влияние. По вере Коменский принадлежал к Богемским братьям — мистическому ответвлению старейшей в Европе реформационной традиции, восходящей к Яну Гусу. Коменского и Андреэ объединяло многое. Оба отличались глубоким благочестием и были священниками реформированной церкви; оба интересовались новыми идейными движениями и пытались привить их к древу отечественной религиозной традиции (только в одном случае такой традицией было германское лютеранство, а в другом — воззрения гуситов). Обоим, наконец, довелось жить в одну и ту же страшную эпоху и работать на пределе своих возможностей в условиях непрекращающихся войн и преследований инакомыслящих. Коменский получил начальное образование в родной Моравии, а затем поступил в кальвинистский университет Херборна, в Нассау. Весной 1613 г. он покинул Херборн и перебрался в Хайдельберг, чтобы продолжить занятия уже в тамошнем университете. В Херборне и Хайдельберге учились, помимо Коменского, и другие богемцы. Он был зачислен в Хайдельбергский университет 19 июня
1613 г., через двенадцать дней после торжественного въезда в город принцессы Елизаветы, новобрачной супруги курфюрста Рейнского. По всей вероятности, Коменскии, будучи юным студентом, тоже вышел на улицы Хайдельберга, чтобы полюбоваться столь пышным зрелищем, и среди прочего видел триумфальные арки, воздвигнутые университетскими факультетами.
Коменскии посещал лекции хайдельбергских профессоров Давида Парея, Иоганна Генриха Альстеда, Абрахама Скультета и Бартоломея Скопения. Парей увлекался идеей объединения лютеран и кальвинистов; и он, и другие профессора, учившие Коменского, входили в близкое окружение курфюрста Фридриха. Скультет служил у Фридриха капелланом и впоследствии сопровождал его в Прагу; Альстед, или Альтингий, в свое время был наставником курфюрста и остался ему верным другом невзирая на все удары судьбы; ориенталист Скопений, как многие полагают, был неофициальным советником Фридриха по религиозным вопросам. Молодой Коменскии, таким образом, мог получать информацию о религиозных и интеллектуальных движениях в Хайдельберге из первых рук. Невольно напрашивается вопрос: не из-за слухов ли о будущих связях между Пфальцем и Богемией Коменскии и его чешские друзья избрали местом учебы именно Хайдельберг и приехали туда как раз в то славное время, когда женитьба курфюрста на дочери Якова I, казалось, предвещала великие и удивительные события?
Время, проведенное в Хайдельберге, оказалось для Коменского важным еще и потому, что там он познакомился с Джорджем Хартлибом, братом Сэмюэла Хартлиба, с которым позднее, в Англии, он будет много и плодотворно сотрудничать.
В 1614 г. Коменскии, вероятно, вернулся в Богемию. За несколько следующих лет он стал человеком огромной, энциклопедической по своему характеру, культуры и разработал систему «пансофии», то есть универсального знания. «Пансофия» Коменского зиждется на философии макро- и микрокосма; как он сам утверждал, его идейным вдохновителем был Андреэ. Свою первую пансофическую энциклопедию, начатую в 1614 г., Коменскии называл «театром (или амфитеатром) всего сущего в мире».
В Хайдельберге Коменскии мог лично познакомиться с Андреэ или просто, как читатель, воспринять некоторые идеи той философии, что стояла за розенкрейцерскими манифестами. Нельзя полностью исключить и третий вариант: а вдруг на духовное содержание розенкрейцер ских манифестов наложилась, среди прочих илияний, и какая-то богемская краска? Богемские братья славились своим человеколюбием и благотворительностью — не были ли использованы эти их качества (наряду с другими, отобранными под влиянием источников иного характера) при создании образа Христиана Розенкрейца?
Мирная жизнь на родине закончилась для Коменского в 1620 г., когда Фридрих потерпел поражение в битве у Белой Горы: для Богемии это событие обернулось потерей национальной религии. Богемские братья были объявлены вне закона. В 1621 г. городок, где жил Коменскии, захватили испанские войска. Дом Коменского сожгли, библиотека и рукописи пропали. Сам Коменскии укрылся в Брандисе, во владениях Карела, графа Жеро-тинского (см. илл. 30). Карел из Жеротина был патриотом и даже состоял в организации, называвшейся «Богемское единство», но, когда разразилась война, не пожелал становиться на сторону Фридриха Пфальцского, предпочтя сохранить верность дому Габсбургов. Поэтому поместья графа не были конфискованы сразу же после поражения чехов, и он на какое-то время смог предоставить убежище Коменскому и другим подобным ему беглецам. Путешествие в Брандис оказалось не только опасным, но и горестным: в дороге Коменский лишился жены и одного из своих детей и добрался до места лишь в конце 1622 г., совершенно нищим.
За время пребывания в Брандисе Коменский написал «Лабиринт мира» — произведение, которому суждено было стать классикой чешской литературы и одной из величайших книг общечеловеческого значения. В этой книге имеется поразительное описание «розенкрейцерского фурора», существенным образом дополняющее сведения, содержащиеся в розенкрейцерских документах.
Однако, прежде чем мы перейдем к рассмотрению «Лабиринта мира», стоит попытаться выяснить отношение Ко-менского к Фридриху, курфюрсту Пфальцскому, как к королю Богемии. Прожив некоторое время в Хайдельберге, Коменский наверняка хорошо представлял себе характер и идеи Фридриха; не мог он не знать и об исторической подоплеке коронации Фридриха и Елизаветы в Богемии, имевшей место в Пражском кафедральном соборе 4 ноября 1619 г. Коменский, как известно, присутствовал на коронационной церемонии, ставшей последним публичным актом Богемской церкви, к которой он принадлежал, вскоре после этого запрещенной.
Некоторый свет на отношение Коменского к Фридриху как к богемскому суверену проливает весьма странная книжица, которая так и называется: «Свет во тьме» (Lux in tenebris). В ней собраны откровения трех пророков-визионеров о грядущих апокалиптических событиях, конце царства антихриста и свете, который вернется в мир на смену мраку антихристова правления. Один из пророков, Кристофер Коттер, предсказывал, среди прочего, и восстановление суверенной власти Фридриха в Богемии. В 1626 г. Коменский привез иллюстрированную рукопись с пророчествами Коттера в Гаагу и показал ее Фридриху. Но и через много лет после смерти Фридриха Коменский сохранил столь высокое мнение о Коттере и его пророчествах, что в 1657 г. опубликовал рукопись, включив ее в книгу «Свет во тьме» и снабдив гравированными иллюстрациями, видимо, воспроизводившими миниатюры первого — рукописного — издания. В предисловии к этой книге, представляя читателю трех пророков, Коменский и обмолвился о том, что показывал рукопись Коттера Фридриху.
Коттер принадлежал к богемскому духовенству, пострадавшему в ходе жестоких гонений, обрушившихся на его родину после 1620 г. Он указывает даты своих видений, охватывающие промежуток времени между 1616 и 1624 гг. В видениях 1620 г., предшествовавших роковой битве, Коттеру было велено предостеречь Фридриха от применения силы. В более поздних видениях имелись указания на то, что судьба вновь вознесет Фридриха на вершину славы. Ниже приводится образец такого пророчества:
Фридрих из Рейнского Пфальца есть Богом венчанный Король.
Фридрих из Рейнского Пфальца, Король Богемии, венчанный Богом, Царем Царей, в 1620 г. подвергся опасности, но <...> воспрянет вновь во всем ранее бывшем у него и много большем изобилии и блеске славы.
Коттеровы видения, как он веровал, были ниспосланы ему ангелами, которые внезапно становились видимыми для него, показывали ему некую картину, а затем вновь обретали свою незримость. На иллюстрациях ангелы предстают перед нами как отроки, не имеющие крыльев, но облаченные в длинные одеяния. Фридрих обычно изображается в образе льва — это, конечно же, Лев Пфальца, знакомый нам по про-Фридриховым и анти-Фридриховым пропагандистским листкам. Знаменитая гравюра, на которой Фридриха и Елизавету окружают четыре льва, символизирующие Пфальц, Богемию, Великобританию и Нидерланды, в одном из Коттеровых видений странным образом преображается в образ льва о четырех головах. В других видениях Коттер зрит львов, повергающих ниц имперского орла; или богемского льва с раздвоенным хвостом, обнимающего Фридриха; или Фридриха в образе льва, стоящего на луне (что символизирует переменчивость его фортуны) и обнимающегося с шестью другими львами. Видения, таким образом, представляют собой своеобразную перелицовку картин жестокого триумфа Габсбургского Орла над Пфальцским Львом, распространявшихся в лубках после разгрома Фридриха. Унижение, которое Котгер когда-то испытал, разглядывая подобные картины, он теперь компенсирует тем, что — с помощью ли ангелов или усилием собственной взыскующей мысли — встречается в видениях с победоносными львами.
В одном из самых поразительных видений Коттер, мирно сидящий в тени дерев с двумя ангелами, видит победоносного льва, вокруг головы которого сияет нимб, а вся фигура излучает царственное достоинство. За его спиной другой лев яростно нападает на змею, и уже изрубленное на куски змеиное тело застыло в небе, ниже большой звезды. Здесь может иметься в виду новая звезда из созвездия Змееносца, появление которой истолковывалось в розенкрейцерском «Откровении» как прокозвестие грядущих перемен. Лев из Коттерова видения, видимо, решил покарать Змееносца за то, что интерпретация новой звезды как благоприятного для Фридриха знака не оправдала себя.
Однако самым поразительным из всех представляется, несомненно, то видение, в котором Коттер узрел трех отроков, или, скорее, ангелов, сидящих за столом и защищающих своими руками миниатюрную фигурку льва, гуляющего по столу. Из столешницы вырастают три розы, а спереди, на подставке стола, изображен крест. Символика розы и креста отсылает нас к розенкрейцерам, и, как знать, не присутствуют ли таинственные братья здесь же, будучи незримыми ангелами, на мгновение представшими во плоти пред очи пророка? Не являются ли именно розен крейцеры теми ангелами-хранителями, что защищаю! Льна Пфальца, которому Коттер предрек возвращение на богемский престол?
Атмосфера патетических видений Коттера, столь избыточно населенных львами, заключает в себе и нечто алхимическое: она напоминает эмблемы из произведений Майера и его последователей (те самые, в которых находил утешение беженец из Богемии Даниэль Стольций). Видения Коттера порождены миром, который нам трудно даже представить: миром, где надежды основывались на чудных ангельских обетованиях, а являвшиеся в видениях Львы и Розы возвещали новую зарю; где даже обманувшиеся в своих ожиданиях, покинутые и отчаявшиеся люди продолжали жить теми же видениями.
Для нас же видения Коттера важны потому, что позволяют составить некоторое представление об отношении Коменского к Фридриху как к суверену Богемии. Вернемся еще раз к сатирическим лубкам, распространявшимся врагами Фридриха после его поражения, и вспомним ту карикатуру, на которой пфальцграф изображался стоящим на заглавной букве «ипсилон» — Y.
В стишках под рисунком говорилось, что богемцы «обручили» Фридриха с миром, ожидая от его правления всемирной реформации, что они и в самом деле попытались реформировать — под его началом — общество и систему образования и что во все эти дела было каким-то образом замешано «высокое общество Розенкрейцеров». А нельзя ли предположить, что среди богемцев, приступивших в правление Фридриха к проведению неких реформ, был и молодой Коменский?
Здесь в наших знаниях зияет большой пробел, и преодолеть сей рубеж гораздо сложнее, чем те трудности, с которыми мы сталкивались до сих пор. Мы ничего не знаем о том, какое влияние имели в Богемии реформацион-ные идеи Джона Ди, были ли они восприняты Богемскими братьями, получили ли новую окраску в Праге (-тогдашнем всеевропейском центре алхимических и каббалистических штудий), прежде чем попали в Германию и приобрели широкую известность благодаря «розенкрейцерским манифестам». Ответов на перечисленные вопросы мы не нашли, но по крайней мере установили, что Фридрих Пфальцский произвел глубокое впечатление на молодого Коменского — как фигура, способная сыграть значительную роль в судьбах Богемии.
Держа эту информацию в уме, обратимся теперь к рассмотрению сцен «розенкрейцерского фурора» в «Лабиринте мира». Коменский описывает «фурор» весьма пространно, повествуя и о «трубных гласах» двух манифестов, повлекших за собой чрезвычайное возбуждение умов, и об ужасной смуте, возникшей из-за того, что множество людей по-разному реагировало на взбудоражившие всех призывы. Два обстоятельства следует иметь в виду, если мы хотим понять высказывания Коменского о «розенкрейцерском фуроре». Во-первых, Коменский, конечно же, разыгрывает читателя, устраивает своего рода ludibrium, притворяясь, будто не понимает, почему никто так и не получил ответа от розенкрейцерских Братьев, почему они предпочли остаться невидимыми. Во-вторых, он писал свою книгу в 1622 г., впав в крайнюю нищету, уже после разгрома фридрихианского движения, и вспоминал происшедшее, находясь в состоянии глубокой депрессии, ибо сторонники Фридриха навлекли гибель не только на себя самих, но и на его — Коменского — родину.
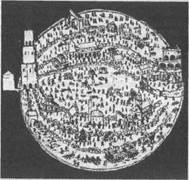
Лабиринт мира. Гравюра из первого издания одноименной книги
«Лабиринтом мира» в романе называется город, разделенный на множество кварталов и улиц, в котором представлены все человеческие науки, знания и профессии.
Его можно причислить к архитектурным мнемоническим системам, подобным Городу Солнца Кампанеллы. Вообще, «Город Солнца» оказал несомненное влияние на замысел «Лабиринта» — возможно, и «Христианополь» Андреэ тоже.
По идее подобный град должен был бы являть собою утопическое, идеальное образование, «эскиз» реформированного мира будущего. Но Коменский в своем сочинении сводит счеты с обманчивыми иллюзиями прошлых лет; его лабиринт есть нечто противоположное утопии, потому что в нем все искажено. Любые науки ведут человека в никуда, любые занятия оказываются тщетными, любые знания — ложными. Книга отражает душевное состояние человека думающего и не лишенного идеалов, но застигнутого врасплох внезапно разразившейся Тридцатилетней войной.
Вместе с тем эта книга может быть прочитана как хроника разочаровывающего опыта, ввергшего ее автора в столь горькое отчаяние, и, между прочим, как хроника розенкрейцерского движения. Все, что Коменский говорит по поводу розенкрейцерства, должно быть процитировано целиком. Глава 13 имеет заголовок: «Странник наблюдает розенкрейцеров», а под ним пометку: Famafraternitatis anno 1612, Latine ас Germanice editax. Тем самым Коменский определенно дает понять, что имеет в виду первый розенкрейцерский манифест, хотя датирует его двумя годами ранее первого известного нам печатного издания.
И тут же на площади услыхал я глас трубы, на него оглянувшись, вижу всадника на коне, и созывает он философов, которые уже толпами отовсюду валят, и начинает им на пяти языках о несовершенстве свободных искусств и всей философии рассказывать. И о том, что все же некоторые славные, от Бога на то побужденные, мужи таковые все недостатки уже обследовали и восполнили и мудрость человеческую на ту ступень, на которой в раю она до грехопадения была, привели. И что злато делать у них из сотни дел почитается за самое незначительное: и что это потому, что вся природа перед ними обнажена и открывается им, и всякому творению образ придать или образ у того же творения отнять могут они по нраву своему и для удовольствия своего. И что языками всех народов они говорить умеют, и что все происходящее на окружности земной, равно даже и в Новом свете, ведают и между собой, пусть даже расстояние будет в тысячу миль, разговаривать умеют. И что философский камень у них есть, и им они всяческие немощи совершенно исцеляют и людей долголетием наделяют. И что Хуго Альварда, ргае-positusnx, достиг будто бы уже возраста в 562 года, а коллеги его не намного его моложе. И хотя столько сот лет таились они, потому что только сами (а семеро их) над исправлением философии трудились, ныне, когда уж все к совершенству приведено, а сверх того известно им, что в мире вот-вот произойдет реформация, более скрываться не желают; посему явно объявляются, со всяким и каждым драгоценными тайнами своими готовые делиться, коль только сочтут человека того достойным. Объявили они, что ежели кто из какого бы то ни было языка и народа к ним обратится, то все получит, и никто без любезного ответа от них не отыдет. Ежели же кто не будет сочтен достойным, который из алчности либо лишь из суетности своей их побеспокоить осмелится, то таковой ничего не дознается.
( Varia de Fama Judicia) (различные суждения об откровении)
Произнеся все это, посланец тот исчез; я же, на собравшихся ученых мужей глядя, всех их новостию тою напуганными вижу. Начинают между тем, головами друг к другу склонясь, кто шепотом, кто в голос, суждение свое выносить. Так же и я, то здесь, то там, то туда, то сюда подойду, чтобы послушать: и ах! одни только что на головах не плясали, радость свою куда деть, не ведая. Жалели предков своих, кои в их время за всю их жизнь подобного ничего не получали; себя же благословляли, ведь им совершенная философия уже в полноте своей предлагалась. А также без огреха все знать, без нехватки все в достатке иметь, без недугов и седин столько сот лет жить, сколько захочется, они смогут. И все время повторяли: «Счастлив, о, очень счастлив наш век!» Наслушавшись их, начал и я в веселие приходить: а ну как, Бог даст, и мне хотя малая толика из того, что им уготовано, достанется — надежда такая у меня появилась. Но тут углядел я других, глубоко задумавшихся, которые, как можно было догадаться, весьма великое смущение испытывали. Будь верно то, что слыхали они объявленным, радовались бы и они тоже: но вещи те очень уж темны были и много превышали разумение человеческое. Иные еще открыто возражали: мол, все это — мошенничество и обман. Коль уж они столько сот лет якобы были, то почему раньше не объявились? Коль уж они в правоте своей столь уверены, почему смело на ясный свет не покажутся? Чего из-за угла темного, что нетопыри какие, свистят? Что же до философии, то она и так хорошо обустроена и реформации никакой не требует: дай только волю, выпусти только из рук философию, и вообще без философии останемся. Еще были иные, что страшно их ругали и проклинали, волхвами, колдунами и воплощенными бесами объявляя.
(Fraternitatem Ambientes)(Идущие вступать в братство)
Шум и гомон стояли на всей площади, и почти каждый желанием получить эти блага пылал. С этой целью многие из них суппликации2писали (одни тайно, другие открыто) и отсылали их, и плясали радостно: мол, уж теперь-то их в сообщество примут. Но углядел я, что ко всякому суппликация его, все уголки обегав, без ответа возвращалась, и веселое упование сменялось тоской: да еще и от маловеров тех насмешки сносить приходилось. Некоторые писали вновь, и во второй, и в третий раз, и больше, прибегая к поддержке всех Муз, как можно униженнее моля, кто как только мог и умел просить (да что там! заклинать!), доказуя, что нельзя его душу лишать желанного искусства и умения. Некоторые, оттяжки не перенеся, в нетерпении сами с одного конца света в другой носились, на свое несчастие сетуя, потому что счастливых людей тех найти не могли. Один винил в том недостоинство свое, другой непорядочность и нерасторопность тем людям приписывал: а в итоге один в отчаяние впадал, другой же озирался кругом в поиске новых путей к нахождению тех мужей и вновь обманывался в надеждах своих, пока самому мне тоскливо не стало, потому что конца всему этому видно не было.
(Continuatio Famae Roseaeorum) (продолжение откровений об розовых братьев)
И вот, ага, опять начали трубить: на звук же сей многие побежали, и я тоже, и увидел какого-то человека, а он товар свой раскладывает, людей зазывает, показать и продать им пре-удивительные тайны суля, которые будто бы из сокровищницы новой философии взяты и всех тайной мудрости взыскующих напитать смогут. И была радость оттого, что уже святое брптст во Розы объявилось и щедро богатствами своими делиться намерено; подходили к тому купцу и приобретали предлагаемое им многие. Все же, что им продавалось, заключено было в шкатулках, раскрашенных и имевших на себе красивые всякие надписи: Врата Мудрости; Твердыня Знания; Училище Всеобщности; Благо Макро- и Микрокосмическое; Гармония Макро- и Микрокосма; Христианская Каббала; Пещера Природы; Акрополь первовещества; Божественная магия; Тройственная Троица кафолическая; Пирамида торжествующая; Аллилуйя {лат.). См.: Odeon, s. 77. k. 4. Латинские заголовки в издании Odeon и английском переводе графа Лютцова, которым пользуется Йейтс, несколько различаютсяи т. д.
Каждому при этом из тех, кто покупал, заповедано было отворять шкатулку. Будто бы тайные те мудрости таковую силу имеют, что и через крышки шкатулок действуют, но ежели шкатулка отворена будет, то эта мудрость из нее выветрится. Тем не менее те из них, что полюбопытнее, не удержались от того, чтобы отворить свои шкатулки, а обнаружив, что внутри совсем пусто, показывали это другим; когда же и те тоже в свои шкатулки заглянули, то ни единый так ничего внутри и не обнаружил. И закричали: «Обман, обман!» — и яростно на человека того накинулись; но он их успокаивал, говоря, что вещи эти — наитаинственнейшие таинства и что они, кроме сынов знания, незримы ни для кого; а коли одному из тысячи и то ничего не досталось, то он им ничего не должен, и не его тут
(Eventus Famae) (следствие откровения)
И они, в большинстве своем, позволили успокоить себя этим; после чего он убрался, а зрители, всяк в своем расположении духа, стали расходиться кто куда: а когда я у них допытываться начал, смог ли кто из них тайны те новые познать, то так ничего и не понял. Только то и знаю, что все потом как-то затихло, и которого сам я поначалу самым торопливым и больше других бегавшим видал, того же потом замечал сидящим в каком-нибудь укромном уголке с замкнутыми устами; либо подобных им к тайнам допустили-таки (как полагали некоторые), и за то они присягнуть должны были, что станут хранить молчание, либо же (как мне безо всяких очков показалось) они стыдились былых упований своих и столь тяжких трудов, напрасно потраченных. И вот, все это как-то рассеялось и затихло, как бывает, когда вслед за бурей тучи рассеиваются, не пролив дождя. А я к провожатым своим обратился: «Что же, из этого всего так ничего не вышло и не выйдет? Ах, надежды мои! Я ведь и сам тоже, такие упования вокруг себя наблюдая, обрадовался, что обрел пищу, подобающую моему разуму!» Отвечал переводчик: «Кто знает? Может, кто из них что-то и получил. Может, мужи сии час свой знают, когда им перед кем-то иным открыться можно?» «А мне-то чего тут надо? Неужто я дожидаться этого часа буду? — сказал я. — Ведь мне не известен ни единый случай, чтобы из стольких тысяч людей, более ученых, нежели я, хотя бы кому-то повезло. Не хочу после этого продолжать глазеть на происходящее здесь: пошли отсюда!»
Таким предстает «розенкрейцерский фурор» в изображении Коменского. Сначала раздается трубный зов «Откровения» (и произведенное им впечатление описывается в романе с потрясающей выразительностью). Потом второй манифест обещает открыть людям тайные знания, извлеченные из сокровищниц новой философии (здесь, возможно, содержится намек на брошюру, излагающую содержание «Иероглифической монады» Ди и опубликованную вместе с «Исповеданием»). Вслед за призывами двух первых манифестов на публику обрушивается целый поток других розенкрейцерских сочинений. Надписи на «шкатулках» (под которыми имеются в виду «бестселлеры» розенкрейцерской литературы) легко узнаваемы: это либо названия действительно издававшихся розекрейцерских книг, либо пародии на таковые. Например, брошюра «Твердыня Знания» (Fortalitium Scientiae), якобы написанная Хуго, де Альварда, вымышленным розенкрейцерским персонажем (о котором говорится, что он очень стар), была опуб ликована в 1617 г.1. Книга «Гавань Спокойствия» (Рогtux Tranquillitatis) вышла в свет в 1620 г.. Заглавия, связанные с макро- и микрокосмической тематикой, почти наверняка намекают на Фладда, а название «Гармония Макро-и Микрокосма» явно отсылает читателя к серии сочинений Фладда, выходившей в Оппенхайме в 1617-1619 гг. Молодой Коменский, надо думать, был знатоком такого рода литературы и ожидал от нее многого. Но наступило время реакции; всякое общественное движение прекратилось; люди, лишь недавно полагавшие, что стоят на пороге новой эры, разочаровывались в прежних идеалах и болезненно расставались с несбывшимися иллюзиями.
Вероятно, Коменский наблюдал этот процесс, живя в Богемии, и описывает он, как откликнулась на «розенкрейцерский фурор» именно его страна.
Дальнейшие впечатления Странника по Лабиринту мира оказываются однообразно-тягостными. Особенно это относится к посещению улиц, где живут приверженцы разных религий и сект, жестоко конфликтующие друг с другом. Но более всего встревожил его следующий эпизод:
Случилось в моем присутствии, что выскользнул из-под одного [королевский трон], расползся и опал на землю. И вот, зашумела толпа народу, я же оглянулся и увидел, ан они уж себе другого ведут и сажают, заявляя, что тут теперь все по-иному будет, не так, как прежде; и приплясывая, всяк, как только может, подпирает и укрепляет [трон]. И понял я, что общему благу помощь в том верная (ибо так в толпе толковали), и потому тоже [к трону] приблизился и клин или два подставил, чтобы его укрепить, за что меня некоторые хвалили, другие же враждебно на меня глядели. Вдруг тот другой [из-под которого трон выпал] своих собирает и с палицей на нас кидается, прет на толпу, да так, что все бегут, а у некоторых и головы с плеч попадали. Я страхом задушен был, никак опамятоваться не мог, пока Всевыведыватель мой, услыхав, как спрашивают: «А кто еще его сажать и утверждать [на троне] помогал?», дернул меня, давая знать, что мне тоже бежать надо.
В примечании к английскому переводу «Лабиринта» отмечается, что в этом эпизоде отразились воспоминания Коменского об изгнании австрийцев из Богемии и кратковременном правлении там Фридриха Пфальцского. По прочтении отрывка становится совершенно очевидным, что Коменский в той или иной мере поддерживал режим Фридриха, ведь он утверждает, что «тоже [к новому трону] приблизился» и даже «клин или два подставил, чтобы его укрепить».
Разгром Фридриха, по свидетельству «Лабиринта мира», был для Коменского сокрушительным ударом, ввергнувшим его в пучину депрессии и разочарования, — как, впрочем, и провал розенкрейцерского движения, иссякно-нение возлагавшихся на него надежд. Между двумя событиями, конечно же, существовала связь: недаром в видениях Коттера «розы» и «львы» так легко соединяются иоедино. Создавая свой «Лабиринт», Коменский еще раз мысленно пережил годы, озаренные розенкрейцерской надеждой, и поражение Фридриха, имевшее столь гибельные последствия для его сторонников. Этот выстраданный опыт оставил в душе философа неизгладимый след, привел его к неприятию земного мира с его запутывающимися в лабиринты стезями.
Зрелища, которые Странник зрит в Лабиринте, ужасны. Перед его глазами прокатывается неисчислимое войско, а недавних бунтовщиков подвергают тошнотворным наказаниям. Он видит смерть и разрушения, мор и голод, презрение к человеческой жизни и человеческому комфорту (вместо действенной заботы о жизни и комфорте человека, которой мечтали посвятить себя Коменский и его былые друзья). Короче, он наблюдает начало Тридцатилетней войны.
И тогда, не в силах будучи долее ни глядеть на то, ни переносить боль сердца моего, я убежал: желая в пустынь куда-нибудь удалиться, а лучше, если бы можно было, и вовсе с этого света убраться прочь.
Не видя вокруг себя ничего, кроме мертвых и умирающих, исполненный жалостью и ужасом, Странник не смог удержаться от горьких слов:
О, наиничтожнейшие, бедные, несчастные люди! Такова, значит, последняя ваша слава?! Таков итог стольких ваших возвышенных деяний? Такова цель, к которой устремлены ваши, столь наполняющие вас гордостью, искусства и премудрости?
И тут он услыхал голос, воззвавший к нему: «Вернись!» Оглянувшись, он не увидал никого, но голос вновь позвал: «Вернись!» А потом еще раз: «Вернись туда, откуда вышел, вернись в дом сердца своего, и затвори за собою двери!»
«Затворившись в сердце своем», Странник слышит там добрые и любящие слова и всецело предает себя Иисусу.
Коменский чрезвычайно близок к Андреэ по своим взглядам и религиозным убеждениям, и даже линии их судеб кажутся параллельными. Я объясняю это тем, что оба они разделяли надежды, воплощенные в розенкрейцерских манифестах: надежды на новое вселенское реформационное движение и прогресс человеческого знания. Оба с тревогой наблюдали за нездоровым возбуждением умов, последовавшим вслед за публикацией манифестов; оба видели, как новое движение сначала вышло из-под контроля своих зачинателей, а затем стало попросту опасным для них. Интерпретация описанного процесса у Коменского очень напоминает беспокойство Андреэ по поводу того, что на подмостках, где игрался розенкрейцерский ludibrium, появилось слишком много новых актеров. Движение свернуло совсем не на тот путь, который имели в виду его инициаторы, и оказалось пагубным для тех целей, которым должно было послужить. Мы узнаем об этом и от Андреэ, и от Коменского. Они оба, оставаясь в душе религиозными идеалистами, были потрясены бедствиями войны и крахом Фридриха в Богемии. И в Германии, и в Богемии происходило одно и то же: гибли библиотеки и научные центры, жесточайшие испытания выпали на долю ученых. В этой ситуации и Андреэ, и Коменский нашли последнее прибежище в евангелическом благочестии. Андреэ, разочаровавшись в розенкрейцерском ludibrium'е, увлекся идеей создания «Христианского Общества». Коменский «затворился в сердце своем», чтобы обрести там Иисуса. Тип благочестия, изначально присущий розенкрейцерству и выразивший себя в девизе Jesus mihi omnia («Иисус для меня — все»), окончательно возобладал над душами обоих, но от «игры» в Христиана Розенкрейца и его филантропическое Братство им пришлось отказаться — она вызывала слишком много кривотолков. Увы! Через мучительные духовные искания и горький исторический опыт, описанные в «Лабиринте мира», прошел не один Коменский, но и Андреэ, и все его единомышленники.
Философскую систему, которую Коменский начал разрабатывать сразу же по своем приезде в Хайдельберг, но которая получила достаточно полное развитие в более поздний, изгнаннический период его жизни, сам он называл, «пансофией». Слово «пансофия», впервые введенное в наручный оборот ренессансным неоплатоником и герметиком Франческо Патриции, подразумевает доктрину уяявер сальной гармонии, связи между «внутренним» миром человека и «внешним» миром природы — короче говоря, философию макро- и микрокосма. Фладд называл свое учение «пансофией» и утверждал, что, по его мнению, розенкрейцерские манифесты тоже выражали подобные воззрения. Коменский и его «пансофия», как мы теперь видим, вышли непосредственно из розенкрейцерского движения (в том расширенном понимании, что предлагается в настоящей книге).
Последним (или одним из последних) переживаний Странника, описанных в «Лабиринте мира», было видение ангелов:
Хотя, казалось бы, нет ничего на свете более беззащитного и для всяческих опасностей уязвимого, чем собрание людей благочестивых (на которых и дьявол и мир сей со злобою взирают, а то и нападают и бьют), — я их увидал надежно укрытыми. Все их сообщество окружено было как бы огнем, но сия огнен ная стена, когда я приблизился к ней, на глазах моих колебаться стала: ибо была она не чем иным, как кольцом из тысяч и тысяч ангелов, окружившим благочестивых; ни единый враг, значит, не мог подступиться к ним. Всяк из них имел также своего собственного ангела, приставленного к нему Господом и призванного быть его хранителем.
Еще я увидал <...> другое достоинство этого священного, незримого содружества: ведайте же, что ангелы те — не только стражи им, но и наставники. Ангелы часто посвящают их в тайное знание о различных вещах и научают глубинно сокровенным таинствам Божиим. Ибо, поелику ангелы сии извечно зрят лик всеведущего Бога, ничто из того, что пожелал бы узнать человек благочестивый, от них не сокрыто, и по соизволению Божию они охотно открывают то, что ведают сами...
Последовать за Странником до конца (до последних страниц «Лабиринта мира» с их удивительным описанием «ангельского служения») — это значит увидеть розенкрейцерское движение, столь живо описанное в первой части романа, под совершенно иным углом зрения.
Ангелология была важной отраслью ренессансной науки. Каббалисты, претендовавшие на то, что умеют вызывать ангелов, подробнейшим образом описали ангельские иерархии и их функции. Христианские каббалисты отождествили ангелов каббалы с христианскими ангельскими иерархиями Псевдо-Дионисия Ареопагита. Герметические трактаты, с их подчеркнутым интересом к божественным силам, проповедовали эманационную философию, которая легко могла быть — и была — включена в христианскую каббалу. В эпоху Ренессанса ангелология имела огромное значение — ее роль еще не оценена по достоинству современными исследователями.
Жизнь Джона Ди, в которой ангельские видения перемежались с занятиями естествоиспытателя и математика, вполне укладывалась в рамки эпохи, столь настойчиво подчеркивавшей наставническую роль ангелов; для него ангелология была одной из научных дисциплин — правда, наиболее значимой. Ди может показаться забавным чудаком только тому, кто рассматривает его творчество в отрыве от ренессансной ангелологической традиции. На самом деле все розенкрейцерское движение было пропитано герметико-каббалистической христианской ангелологией. Андреэ в «Христианополе» уделяет огромное внимание науке, технике, благотворительности, однако в основе его утопии лежит идея «ангельского служения». Коменский в «Лабиринте мира» предлагает свою интерпретацию «ангельского служения», особо выделяя в нем наставнический аспект.
Хотя Андреэ и его последователям, одним из которых был Коменский, в годы войны пришлось отказаться от внешних атрибутов дискредитировавшего себя розенкрей-дерства, утопический идеал просвещенного филангромического общества, поддерживающего контакт с небесными сферами, не был утрачен. Напротив, утопизм того типа, к которому можно отнести христианские общества Андреэ, превратился за время Тридцатилетней войны в весьма значительную подспудную силу; его пропагандировали такие люди, как Коменский, Сэмюэл Хартлиб, Джон Дюри (все трое в той или иной степени испытавшие на себе влияние Андреэ), а также прямые наследники того реформаторского движения, что скрывалось под маской «розенкрейцерства» и потерпело сокрушительную катастрофу а 1620 г.

