ИНТЕРЬЕР МИНИСТЕРСТВА АВИАЦИИ – ВЕЧЕР, 1940 7 страница
Несколько комнат первого этажа, бывших поменьше размером и находившихся прямо у лестницы, также принадлежали колледжу. Их преобразовали в нечто совершенно поразительное, странное и невиданное: в женскую уборную. В передней комнате установили большой туалетный стол с электрическими лампочками по обеим сторонам от зеркала. На столе расположились коробочки с разноцветными бумажными носовыми платками, стеклянная банка с ватными палочками и красиво расписанная фарфоровая чаша с зеленовато-голубыми, младенчески розовыми и желтыми, как жители Востока, шариками ваты. Под ламбрекен – или подзор – накрывавшей стол скатерти из вощеного ситца в цветочек было задвинуто свежеокрашенное в ярко-белый цвет плетеное кресло. На розовых стенах висели три различных торговых автомата, от которых можно было всего за монетку получить гигиеническую прокладку или тампон. В собственно уборной стоял сложной конструкции мусоросжигатель для только что названных, уже использованных предметиков. На двери, с внутренней ее стороны, были в большом количестве развешаны коричневые мешки для отходов и прочего – бренда «Lil-lets». Все здесь словно вопило: «Ты женщина! И даже не думайзабыть об этом!»
«Куинз-колледж», проведший 532 года в однополом состоянии, решил перейти на систему совместного образования. В этом триместре здесь должны были появиться – как полноправные «члены колледжа» – студентки.
Мне нетрудно представить себе сцены, которые разыгрывались на совещании управлявших колледжем «действительных членов».
– Джентльмены! Как вы знаете, два года назад наше правление проголосовало за то, чтобы женщины…
– Я за это не голосовал!
– Я тоже.
– Э-э, да, спасибо, доктор Бэнтри и профессор Трелфолл. Большинство действительных членов проголосовало за допущение женщин в колледж. В следующем триместре, как вам опять-таки известно, здесь появятся первые…
– Они что же, и есть вместе с нами будут?
– Разумеется, доктор Кемп, они буду питаться вместе с нами. Почему бы и нет?
– Ну, я полагал, они едят как-то… иначе.
– Иначе?
– Втягивают в себя пищу губами, нет? Или я перепутал их с кошками?
– Доктор Кемп, вам вообще когда-нибудь случалось близко знать хоть одну женщину?
– Э-э… ну, не в том смысле, какой вы могли бы… У меня мать была женщиной. Нас представили друг другу, когда мне исполнилось семь. И после этого я время от времени встречался с ней за обеденным столом. Это можно считать знакомством, достаточно близким?
– И как же она принимала пищу, нормально?
– Дайте подумать… да, теперь вспомнил, спасибо, – да. Вполне нормально.
– Ну вот и все они так едят. Существует, однако, проблема клоачных приготовлений. Гигиенические требования женщин… м-м… несколько sui generis.[75]
– Да что вы? И в чем же?
– Э-э… ну, сказать по правде, я и сам в этом не так чтобы разбираюсь. Но, насколько мне известно, каждой женщине требуется время от времени покричать, дать мужчине пощечину, залиться слезами и… э-э… а затем высморкаться или проделать что-то похожее. Вот примерно так. И происходит это, как мне говорили, с периодичностью в один месяц. Так что нам придется отвести для этих целей специальное помещение.
– Я знал, что добра мы от них не дождемся.
– Слушайте, на хер, слушайте!
– Джентльмены, прошу вас! Если мы не можем всего лишь…
– А вот куда они на ночь груди вешать будут? Ответьте-ка мне на этот вопрос.
– Виноват?
– У женщин имеются дополнительные плотские валики, которые они прикрепляют к телу – спереди, в верхней его части, – с помощью проволочных подвесок и шелковых штифтов. По крайней мере, это я о них знаю. Вопрос: куда они станут вешать их на ночь? А? Вы понимаете? Об этом вы подумать не удосужились, не так ли?
Ну и так далее… пока совещавшиеся не сбились с толку окончательно.
Если не считать устройства поразительных уборных, появление Женщин в колледже оказалось самой естественной вещью на свете. Представлялось невозможным поверить, что прежде их здесь и вовсе не было. Принимали ли их в более шумные и грубоватые сообщества колледжа, такие как «Кенгуру», спортивный клуб, а то и «Херувимы», главой которого, или «Старшим членом», я теперь стал, этого в точности сказать не могу. Поскольку все женщины колледжа были, по определению, первокурсницами, в «Олд-Корте» они не жили, а стало быть, и сверкавшей чистотой женской уборной, находившейся у подножия лестницы А, не пользовались. И уборная эта обратилась в нашу личную дефекационную. Потому я и знаю наизусть надпись, украшавшую автомат с гигиеническими прокладками: «Lil-lets раздвигаются в ширину и мягко приспосабливаются к особенностям вашего тела. Если возникнут вопросы, звоните сестре Мэрион».
К этому времени мы с Кимом уже стали любовниками и были счастливы. Он играл в шахматы, читал Фукидида, Аристотеля, Цицерона и сотрясал «Олд-Корт» музыкой Вагнера, время от времени приправляя ее исполинскими темами Верди и Пуччини. Я учил роли, от случая к случаю печатал на моем «Гермесе» очередную письменную работу, читал, курил и трепался. Друзья поднимались к нам и засиживались у нас на долгие вечера с гренками, кофе и вином. Ближе всего мы сошлись с аспирантом «Сент-Катеринз» Робом Уайком, который уже преподавал в этом колледже и писал диссертацию. Он сыграл в нашей «Буре» Гонзало. Роб, еще один диссертант-технолог Пол Хартелл и третий аспирант, необузданный и замечательный Найджел Хакстеп, составляли триумвират, общество которого мы с Кимом очень ценили. Диапазон их знаний был огромен, однако эрудицией своей они не чванились. В свободные вечера мы «draaj» (по уверениям Найджела, который усваивал языки с такой же легкостью, с какой ребенок подхватывает инфекции, на африкаанс это означало «прогуливаться») мимо «Кингза», по Тринити-стрит и в паб «Барон Бифштекс» на Бридж-стрит, куда сползались все кембриджские сплетни.
Комитеты[76]
Как студент третьего курса я оказался теперь членом бесчисленных комитетов. Не только президентом Майского бала, Старшим членом «Херувимов» («Я видел ваш член, Старший член» – таким, разумеется, напевчиком встречали меня все желающие) и президентом BATS, – я заседал также в правлениях ЛТК, «Лицедеев» и нескольких других театральных клубов. И это означало, что с самого начала первого триместра мне пришлось бегать с заседания на заседание и выслушивать «разработки», как мы сказали бы ныне, режиссеров.
Выглядело это примерно так. Допустим, вы – режиссер или желаете стать оным. Вы выбираете пьесу – новую или классическую, – решаете, как будете ее ставить, подготавливаете речь о вашей «концепции», набрасываете разумный бюджет и записываетесь на прослушивание вашей речи во все крупные театральные общества. Сейчас для таких штук используют, полагаю, презентационное программное обеспечение и электронные таблицы, тогда же все обходились листками бумаги и витийствованием.
На заседание ЛТК является до краев наполненный самоуверенностью первокурсник. Выглядит он исстрадавшимся, застегнутым на все пуговицы, немного подавленным, ранимым социалистом, который видит вокруг себя одно лишь насилие человека над человеком.
– Меня очень, очень интересует то, что делают Гротовский и Брук, – сообщает он нам. – Я хочу поставить «Танец сержанта Масгрейва», используя их теории в сочетании с элементами брехтовской эпичности. Исполнители будут одеты только в белое и красное. Декорацию образуют строительные леса.
О господи! Ладно. Конечно. Он уходит, мы совещаемся. Парень, похоже, башковитый. «Сержант Масгрейв». Насколько нам известно, его уже лет пятнадцать никто не ставил. Идеи у него интересные. И обойдется все недорого. Определенно стоит подумать.
Мы выслушиваем еще трех кандидатов, и я лечу в «Тринити-Холл», где должно состояться такое же заседание правления «Лицедеев». Третий из тамошних кандидатов – тот же самый первокурсник, который выступал перед комитетом ЛТК. Он входит, садится.
– Меня очень, очень интересует то, что делают Гротовский и Брук, – объявляет он. – Я хочу поставить «Как жаль, что она блудница», используя их теории в сочетании с элементами брехтовской эпичности… – Он умолкает, окидывает меня неуверенным взглядом. Где он мог меня видеть? Затем встряхивает головой и продолжает: – Исполнители будут одеты только в белое и красное. Декорацию образуют строительные леса.
Еще несколько кандидатов – и я отправляюсь в «Куинз» на заседание правления BATS. И разумеется, обнаруживаю там все того же первокурсника. Похоже, мимо него не проскочишь.
– Меня очень интересует то, что делают Гротовский и Брук. Я хочу поставить «Как важно быть серьезным», используя их теории…
– В сочетании с элементами брехтовской эпичности? – спрашиваю я. – А костюмы, надо полагать, будут только белыми и красными? Плюс строительные леса?
– Э-э…
Теперь этот первокурсник обратился в преуспевающего homme de théátre [77] и известного художественного руководителя. Не знаю, во многих ли его нынешних постановках исполнители облачены только в белое и красное, однако поставленный им на строительных лесах спектакль «Моя прекрасная леди», в котором были использованы теории Гротовского и Брука (в сочетании, как меня уверяли, с брехтовской эпичностью), произвела прошлым летом фурор в курортном Марагите. Молчу, молчу.
Комитеты я ненавидел тогда, ненавижу и ныне. Вся моя жизнь прошла в борьбе за то, чтобы по возможности избегать их. И всю мою жизнь я в этой борьбе проигрывал. Делать что-то мне куда интереснее, чем разглагольствовать о том, как это следует сделать. Люди, сидящие по комитетским залам, разумеется, правят миром, что очень мило, если вам именно этого и хочется, однако у тех, кто правит миром, остается так мало возможностей для того, чтобы поболтаться по нему, поиграть с ним и повеселиться.
И потому я испытал большое облегчение, получив роль Вольпоне в осуществлявшейся ЛТК постановке одноименной пьесы. Роль Сэра Предположительного Политика исполнил второкурсник из «Киза», Саймон Бил, без малого затмевавший всех, кто выходил с ним на подмостки, поразительными физическими данными комика и совершенно возмутительной способностью переиграть кого угодно. В одной из сцен второго акта он стоял спиной к публике, разговаривая со мной. Я никак не мог понять, почему мой великолепный монолог вызывает так много смешков. Как-то неприятно чувствуешь себя, когда не можешь уразуметь причину смеха. Впоследствии выяснилось, что на протяжении всей этой сцены Саймон Бил почесывал задницу. Проделай такое актер не столь одаренный или человек не столь восхитительный, я бы, наверное, разозлился. Помимо прочего, он прекрасно пел и обладал совершенным слухом. В спектакле имелась сцена на рынке, в которой требовалось петь, – на меня это требование, разумеется, не распространялось, но только на меня. Саймон вставал за кулисами, все актеры сбивались вокруг него, и он задавал, точно камертон, ноту. После спектакля он исполнял, чтобы порадовать меня, «Dalla sua pace»[78] или «Un’aura amorosa»,[79] – и я растекался в лужу наслаждения. В один из вечеров среди публики обнаружился досточтимый исследователь Шекспира, заслуженный профессор в отставке Л. Ч. Найт, которого все любовно именовали Элч. По окончании спектакля он оставил для меня на служебном входе записку, в которой говорилось, что, по его мнению, мой Вольпоне превосходит сыгранного Полом Скофилдом. «Он лучше по форме, лучше по декламации и выглядит достовернее. Ничего более восхитительного я еще не видел». Как это на меня похоже – запомнить его записку слово в слово. Конечно, старику было почти восемьдесят, он наверняка давно оглох и впал в слабоумие, и тем не менее я ощутил безумную гордость. Слишком большую для того, чтобы показать записку кому-либо – кроме Кима и режиссера, – ибо гордость тем, что я не позволяю себе выглядеть хвастуном или довольным собой человеком, была гораздо сильнее той, что внушалась мне моими достижениями. Время от времени две эти разновидности гордыни вступали друг с дружкой в схватку, но, как правило, побеждала первая, получавшая за это ничем ею не заслуженный титул скромности.
Как-то ранним вечером, в один из дней той недели, когда мы показывали «Вольпоне», я, прохаживаясь за сценой ЛТК, споткнулся о коробку, груда которых лежала на полу коридора. В них находились программки спектакля, который ЛТК намеревался показать на следующей неделе, – коробки только что свалил здесь посыльный из типографии. То была программка «Танца сержанта Масгрейва»: обуянный манией «Гротовский – Брук» первокурсник нашел-таки щель, в которую ему удалось пролезть. Я прочитал его вступительное слово.
Труд. Дисциплина. Товарищество. Труд,
дисциплина и товарищество. Только на трех
этих опорах сможем мы построить воистину
социалистический театр.
Я оттащил коробки в мою гримерную, отыскал ручку. Час спустя программки вернулись в коробки. Однако теперь вступительное слово режиссера выглядело так:
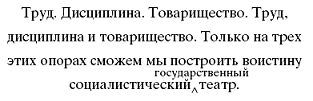
Несколько позже я увидел его белым и разъяренным – и почувствовал себя безобразной скотиной. Но вообще-то говоря. Если серьезно. Как называл Шекспир тех, кто играет на сцене, «трудящимися» или «актерами»?
«Кольцо»[80]
На следующей неделе Ким удивил меня своим планом «отлучки» из Кембриджа. Он приобрел билеты на цикл «Кольцо нибелунга», поставленный Гётцем Фридрихом в Королевском оперном театре. В понедельник – «Золото Рейна», во вторник – «Валькирия», в среду выходной, в четверг – «Зигфрид», пятница – выходной, в субботу – «Закат богов». Целая неделя валькирий, нибелунгов, богов, героев, норн и великанов. Я впервые попал в «Ковент-Гарден» и в первый раз услышал живого Вагнера. Не в последний. Собственно, сейчас, когда я ввожу эти слова в компьютер, стоит вторник. Три дня назад я был на «Закате богов». Такие вещи постепенно входят в состав вашей крови. Ну ладно, моей. Вашей, может быть, и нет. Всем вагнерианцам знакома мутная пленочка, которая начинает застилать глаза того, кому они рассказывают о своем маниакальном пристрастии, и потому я ничего больше говорить не стану, сказав лишь одно, и без того, полагаю, очевидное: то было потрясающее переживание, неделя, изменившая мою жизнь.
Коллега по комедианству, соавтор и товарищ[81]
А на горизонте уже замаячило событие, переменившее мою жизнь в еще большей мере, переживание еще более потрясающее.
Среди друзей, заглядывавших в нашу А2, была и Эмма Томпсон. Она, покинувшая на год «Огни рампы», на последнем курсе вернулась в клуб как его вице-президент. И как-то ранним вечером Эмма, явившись к нам, плюхнулась на нашу великолепную софу.
– Ты помнишь Хью Лори?
– Э-э… напомни, кто это?
Она нетерпеливо запустила в мою голову диванной подушкой.
– Ты отлично знаешь, кто это. Он играл в «Ночном колпаке».
– А. Высокий малый с румянцем на щеках и большими синими глазами?
– Точно. Теперь он президент «Огней рампы».
– Ишь ты!
– Да, и ему нужен человек, который писал бы с ним сценки. Поэтому он попросил, чтобы я привела тебя к нему, он в «Селуине» живет.
– Меня? Но я его даже не знаю… как же… с какой стати?
– Да знаешь ты его! – Теперь она метнула в меня две подушки подряд. – Я же вас в Эдинбурге и познакомила.
– Правда?
Подушек больше не осталось, поэтому Эмма метнула в меня выразительный взгляд. Возможно, самый выразительный, какие метали в том году в Кембридже.
– Для человека с такой хорошей памятью, – сказала она, – ты безобразно забывчив.
Втроем – Ким, Эмма и я – мы направились по Сиджуик-авеню к «Селуин-колледжу». Стоял холодный ноябрьский вечер, в воздухе пахло – после «Ночи Гая Фокса», отмечавшейся где-то рядом с Фен-Козвей, – пороховой гарью. Наконец мы дошли до викторианского здания, стоявшего на Грэндж-роуд неподалеку от самого юного из колледжей Кембриджа, «Робинсона».
Эмма провела нас через незапертую дверь здания, потом по лестнице, потом до самого конца коридора. Постучала в дверь комнаты. Голос за дверью пророкотал: «Входите».
Он сидел, положив на колени гитару, на краешке кровати. На другой стороне комнаты расположилась его подружка Кэти Келли, которую я немного знал. Она училась, как и Эмма, в «Ньюнеме», на отделении английской литературы, – очень хорошенькая, с длинными светлыми волосами и очаровательной улыбкой.
Он неловко встал, красные флажки на его щеках пылали как никогда.
– Здорово, – сказал он.
– Здорово, – ответил я.
Мы оба были из тех, кто вместо «привет» говорит «здорово».
– Вина какого – белого или красного? – спросила Кэти.
– Я тут песенку сочинял, – сказал он и начал перебирать струны гитары.
Это было подобие баллады, написанной для роли американского сторонника ИРА.
Денежат вам, сэр, на бомбы для ИРА?
За нами чтоб да заржавело?
Мы ж всей душой за правое, за дело!
Акцент был безупречным, пение великолепным. Я решил, что лучшей песенки написать невозможно.
– «Вулвортс», – сказал он, откладывая инструмент. – Я беру иногда взаймы гитары, которые стоят раз в десять больше этой, но с ними у меня ничего не получается.
Кэти принесла вино.
– Ну, может, ты ему все-таки скажешь?
– А. Да. Значит, дело вот в чем. «Огни рампы». Я их президент, понимаешь?
– Я видел тебя в «Ночном колпаке», ты был великолепен, да и ревю блестящее, – поспешил сообщить я.
– О господи. Ладно. Хотя нет. Ты серьезно? Ну, э-э… «Латынь!». Высший класс. Абсолютно.
– Да глупости, брось.
– Полный блеск.
Пройдя таким образом через кошмар выражения взаимных восторгов, оба мы замолчали, не зная, что сказать дальше.
– Ну продолжай же, – потребовала Эмма.
– Да. Так вот. В этом триместре мы лишились двух «Курильщиков», но самое главное, это панта.
– Панта?
– Ага. Рождественская пантомима, для детей. Два года назад мы показывали «Аладдина».
– Хью играл китайского императора, – вставила Кэти.
– Боюсь, я ее не видел, – сказал я.
– И правильно. Я бы тоже смотреть не стал. Если бы сам в ней не участвовал. В общем, в этом году мы ставим «Снежную королеву».
– По Гансу Христиану Андерсену?
– Ага. Мы с Кэти пишем сценарий. Пока накатали вот это… – он показал мне стопку листков.
Пять минут спустя мы с Хью уже сочиняли сценку – да так, точно занимались этим все прожитые нами до того времени годы наших жизней.
Думаю, вам доводилось читать о внезапно влюблявшихся друг в друга людях – о том, как молния любви ударяет в них под звон оркестровых тарелок, высокое пение струнных и громовые аккорды, читать о взглядах, которые встречаются, перелетая с одной стороны комнаты на другую, под глухой звон тетивы на луке Купидона. Однако о любви с первого взгляда, которая поражает соавторов, о людях, которые в единый миг обнаруживают, что родились для того, чтобы вместе работать, быть прирожденными, идеальными друзьями, вы, полагаю, читали гораздо реже.
Как только Хью Лори и я принялись делиться идеями, обнаружилось – с чудесной и окончательной ясностью, – что мы разделяем абсолютно одинаковое понимание смешного, что у нас одни и те же принципы, вкусы и представления о том, что может оказаться вторичным, дешевым, банальным или стилистически неприемлемым. Из чего вовсе не следует, будто мы были во всем подобны друг другу. Если мир полон розеток, выискивающих свои вилки, и вилок, выискивающих розетки, как – грубо говоря – предполагает платоновская аллегория любви, тогда каждый из нас, вне всяких сомнений, увидел в другом в точности те достоинства и недостатки, которыми сам он не обладал. Хью был музыкален, я – нет. Он умел изображать привлекательное слабоумие и шутовство. Он двигался, падал и прыгал, как спортсмен. Он обладал убедительностью, внушительностью осанки и апломбом. Я же… минуточку, а я-то чем обладал? Ну, полагаю, умением болтать – быстро и плавно. И жонглировать словами. Эрудицией. Хью всегда говорил, что я привношу в нашу работу то, что он именовал gravitas.[82] И при том, что и сам он, выходя на сцену, источал властность, думаю, что я выглядел, изображая наделенных властью немолодых персонажей, несколько убедительнее. Кроме того, я писал. То есть самым натуральным образом записывал строки и реплики пером на бумаге или отстукивал на пишущей машинке. Хью же держал все фразы и строки сочиняемых им монологов и песенок в голове, а записывал или надиктовывал их, лишь когда режиссерам либо администраторам требовался сценарий.
Хью решил, что «Огни рампы» должны выглядеть повзрослевшими, но ни в коем случае не довольными собой или, боже оборони, респектабельными. Мы с ним разделяли ужас перед респектабельностью. Носить темные очки в пасмурную погоду, напускать на себя страдальческий, раздерганный вид ранимого человека, придавать лицу, столкнувшись с чем-то тебе непонятным или таким, от чего твоя утонченность предпочитает держаться подальше, презрительно-придирчивое выражение, словно говорящее: «Э-э?!! Что?!» – весь этот бесплодный, себялюбивый, изысканный нарциссизм внушал нам отвращение. Лучше уж выглядеть простофилей, считали мы, чем человеком пресыщенным, уставшим, утратившим вкус к жизни. «Мы студенты, ради всего, мать его, святого, – таким было наше кредо. – Нам прислуживают люди, заправляющие наши постели и прибирающиеся в наших комнатах. Эти комнаты обиты средневековыми деревянными панелями. У нас есть театры, типографии, первоклассные крикетные площадки, река, лодки, библиотеки и сколько угодно времени для получения удовольствия, для веселья. Какое же право имеем мы стенать, страдать и слоняться по городу с истерзанным видом?»
На наше счастье, эпоха молодых микрофонных юмористов тогда еще не наступила. Общая идея, боюсь, ставшая ныне реальностью, исстрадавшегося, чрезмерно эмоционального студента, никем не понимаемого, апатичного, цепляющегося, чтобы не рухнуть под бременем жизни, за ножку микрофона, превосходила все то, что мы сумели бы стерпеть. Мы были на редкость чувствительными к претенциозности, эстетическому диссонансу и лицемерию. Молодость так педантична. Надеюсь, теперь мы обзавелись большей терпимостью.
Почти никто из людей, с которыми мы работали в Кембридже и после него, не разделял, похоже, а то и вовсе не понимал наших эстетических взглядов, если то, о чем я говорю, можно удостоить такого титула. Вполне возможно, что присущая нам боязнь оказаться неоригинальными, показаться много о себе мнящими, тривиальными, а то и выбирающими путь наименьшего сопротивления здорово затрудняла наши комедийные карьеры. Однако те же самые страхи могли подталкивать нас и к лучшим из наших начинаний, так что настоящей причины сожалеть о чрезмерной впечатлительности, разборчивости, которую, похоже, только мы с Хью и разделяли, у меня нет. Мы быстро привыкли к выражению замешательства, появлявшемуся на лицах тех, кто предлагал нам нечто, неумышленно преступавшее то, что инстинктивно ощущалось нами как граница смешного, правильного или уместного. Не думаю, что мы позволяли себе агрессивность или просто недоброту – во всяком случае, сознательно, – однако, когда два человека пребывают в полном согласии относительно всего, что касается принципов и мировоззрения, они вполне могут производить впечатление отталкивающее, и, думаю, парочка долговязых выпускников частных школ вроде нас должна была выглядеть неприступной и отчужденной. Разумеется, внутренне мы вовсе такими не были. Я не хочу изображать нас серьезными, догматичными идеологами, Фрэнком и Куини Ливисами от Комедии. Большую часть времени мы проводили, смеясь. Любой пустяк мог заставить нас покатиться со смеху, точно подростков, каковыми мы, разумеется, совсем недавно и были.
Хью перебрался в Кембридж из Итона делавшим большие успехи, вошедшим в молодежную сборную страны гребцом, который уже успел завоевать вместе со своей школьной подружкой Джеймс Палмер золото в соревнованиях парных байдарок на юношеских Олимпийских играх и на Хенлейской регате. В тридцатых его отец все три года учебы получал «голубые награды» Кембриджа в соревнованиях по гребле, состоял в национальной сборной по академической гребле (в восьмерке), выступавшей на берлинской Олимпиаде 1936-го, а на лондонской 1948-го участвовал в соревнованиях парных байдарок и завоевал вместе с Джеком Уилсоном золото. Не подхвати Хью моноцитарную ангину, его наверняка немедля включили бы в гребную команду университета, однако на первом курсе эта болезнь лишила Хью места в сборной Кембриджа, и он начал подыскивать себе другое занятие и оказался в труппе «Аладдина», а через два триместра – и «Ночного колпака». На втором курсе он покинул «Огни рампы» и занялся тем, ради чего и поступил в Кембридж, – спортивной греблей. В пять-шесть утра он приходил к реке, отдавал несколько часов надрывавшей спину гребле – затем занятия бегом, гимнастический зал, а оттуда снова на реку. В 1980-м Хью выступил за университет в гребных гонках, которые Оксфорд выиграл, обойдя нашу команду буквально на толщину волоска, с минимальным из когда-либо виданных преимуществом. Представьте себе разочарование Хью. Сколько раз, должно быть, он прокручивал в голове каждый ярд той гонки. Если бы они увеличили частоту гребков всего на один в минуту, если бы рулевой взял на повороте чуть круче, если бы они приложили у Хаммерсмитского моста на 2 процента больше усилий… конечно, такая близость победы не могла не надрывать душу. Я попробовал рассказать ему о том, что пережил, когда мы проиграли «Мертону» в финале «Дуэли университетов», дать понять, что в точности знаю, какие чувства он мог испытывать. И Хью смерил меня взглядом, который содрал бы шкуру и с носорога.
На следующий, последний для него кембриджский год он мог либо остаться в гребной сборной, либо вернуться в «Огни рампы», но не то и другое сразу. Президент Гребного клуба Кембриджского университета или президент кембриджских «Огней рампы»? Хью уверял, что подбросил монетку и ему выпали «Огни». Он съездил в Эдинбург, увидел «Латынь!» и решил, что я могу принести «Огням рампы» пользу. Из наших однокурсников в клубе остались только он и Эмма, поэтому Хью требовался приток свежей крови. Он включил в правление клуба Кима – как Младшего Казначея, Кэти стала Секретарем, Эмма – Вице-президентом, а компьютерщик из «Сент-Джонза» Пол Ширер, потешный, траурной складки актер с почти такими же большими, как у Хью, глазами, уже занимал в правлении пост Клубного Сокольничего. Эта странная должность возникла в те времена, когда «Огни рампы» квартировали в «Сокольничем дворе». Не думаю, что с ней были сопряжены какие-либо обязанности, однако название звучало гордо, и я завидовал Полу, мучительно и постыдно.
Преемственность и клубная комната[83]
Существует одна и, пожалуй, перевешивающая все прочие причина, по которой клуб «Огни рампы» дал миру поразительное число людей, оставивших в нем приметный след, и причина эта – преемственность. «Огни рампы» обладают традицией, зародившейся больше ста лет назад. И она понуждала многих из тех, кто испытывал неодолимую тягу к комедии, выбирать в качестве места учебы именно Кембридж. В «Огнях рампы» существовало строгое расписание: пантомима – Михайлов триместр, «Ночное ревю» в ЛТК – Высокопостный триместр и «Ревю Майской недели» в театре «Артс», которое затем отправлялось в турне по другим городам, начиная с Оксфорда, а к августу добиралось до эдинбургского фестиваля «Фриндж». А весь год был приправлен «Курильщиками». Так сокращенно именуется «Концерт для курящих».[84] Полагаю, курить на этих представлениях теперь уже не разрешается, однако название их уцелело. В наше время «Курильщики» разыгрывались в «клубной комнате». То, что у клуба имелся собственный маленький зал, было еще одним неоценимым преимуществом «Огней рампы» перед другими комедийными группами университета.
Думаю, ближайшим аналогом «Курильщиков» во внешнем мире являются вечера «открытого микрофона», хотя в наше время существовала скромная система фильтрации, делавшая слово «открытый» не совсем точным. Любой студент любого колледжа, возлагающий какие-либо надежды на сочиненные им скетчи, сценки, песенки и монологи, мог прийти за день до представления в клубную комнату и продемонстрировать их на сцене. И тот член правления, который отвечал за завтрашних «Курильщиков», принимал его творения либо отвергал. Если он говорил «да», этот материал включался в программу, и прослушивание продолжалось до тех пор, пока не набиралось достаточное для завтрашнего представления число номеров. Огромное преимущество этой системы состояло в том, что к наступлению Майской недели накапливалось множество номеров и исполнителей, уже опробованных на публике, так что комитету было из чего выбирать. В большинстве других университетов подобная система подпитки отсутствовала. Джош и Мэри из Уорика либо Сассекса могли, конечно, сказать: «Ладно, ребята мы забавные, давайте-ка сочиним шоу и поедем с ним в Эдинбург! Играть будут Ник, Саймон, Бернис и Луиза, а Баз напишет песенки». Возможно, ребятами они были и вправду забавными и талантливыми, однако у них отсутствовала и годовая практика, и опыт, и шкаф, набитый уже опробованным материалом, на который опирались «Огни рампы». Думаю, этим, по сути, и объяснялась способность нашего клуба сохранять год за годом высокое качество своих представлений. Именно поэтому турне его неизменно окупались, а молодые люди, питавшие склонность к комедии, так часто ставили, заполняя официальные бланки прошений о приеме в университет, галочку против Кембриджа.
