Философская история Георга Вильгельма Фридриха Гегеля
В 20-х годах XIX в. Гегель в курсе лекций по философии истории демонстрирует новое понимание как задач научного исторического знания, так и метода их достижения.
Историософская концепция Гегеля подвергается критике по трем направлениям:
■ Абсолютный Дух в своем развитии останавливается в Прусском государстве, которое на рубеже XVIII—XIX вв. явно нельзя назвать самым приятным местом для его обитания;
■ концепция Гегеля, претендуя на всеобъемлемость, не охватывает историю многих народов;
■ Гегель осуществляет «насилие над фактами».
Задача Гегеля — понять современную ему историю как сторону эволюционного целого, что вполне понятно в контексте всей философской системы Гегеля, одна из основополагающих идей которой — «ничто единичное не обладает всей полнотой реальности».
Именно поэтому «абсолютная идея... приближается к осуществлению... в Прусском государстве», т.е. там и тогда, где и когда жил Гегель, и когда для него заканчивалась история, как имеющая своим предметом уже реализованное прошлое человечества. И именно поэтому Гегель не включает в свое построение все народы. Рассматривая «географическую основу всемирной истории» (что было обычным для глобальных построений, достаточно вспомнить трактат Гердера), Гегель пишет:
«.. .прежде всего следует обратить внимание на те естественные свойства стран, которые раз навсегда исключают их из всемирно-исторического движения: таких стран, в которых развиваются всемирно-исторические народы, не может быть ни в холодном, ни в жарком поясе... В жарком и холодном поясах для человека невозможны свободные движения, жар и холод являются здесь слишком могущественными силами, чтобы дозволить духу создать мир для себя. Уже Аристотель говорит: когда удовлетворены необходимые потребности, человек стремится к всеобщему и к высшему. Но в жарком и холодном поясах гнетущие потребности никогда не могут быть удовлетворены; человеку постоянно приходится обращать внимание на природу, на палящие лучи солнца и на сильную стужу. Поэтому истинной ареной для всемирной истории и оказывается умеренный пояс, а именно его северная часть, так как в ней земля имеет континентальный характер...»24. 24 Гегель Г.-В.-Ф. Указ. соч. С. 126-127.
Таким образом, Гегель делит все народы на две группы, сопоставляя их по признаку создания государства. И только те народы, которые создают государство, считает историческими.
Правомерно ли отказывать целым народам, несомненно создавшим высокую культуру (например, индейцам Америки), в историчности? Конечно, вы сами должны сформулировать для себя ответ. Моя же задача — предложить, как говорилось в известном фильме, «информацию для размышления».
Концепция Ю. М. Лотмана, который подходит к той же проблеме исторических и неисторических народов, но совершенно с иных позиций, чем Гегель.
Начнем рассуждение с аксиомы: мы — внутри культуры, для которой свойствен определенный (но не единственно возможный) тип социальной памяти — казуальный по целеполаганию; письменный — по механизму, и именно он может быть охарактеризован как исторический по социальной функции. Этот тип памяти идентифицируем по механизму хранения информации (письменность). Попытаемся обнаружить (представить) культуру с иным типом памяти — соответственно «бесписьменным».
Лотман обращается к феномену южноамериканских доинских цивилизаций и выделяет в качестве основной (наиболее заметной с позиций европейской культуры) характеристики отсутствие письменности. Он рассматривает письменность как механизм памяти, точнее, как механизм коллективной памяти. Лотман — для нас это принципиально важно — устанавливает подобие индивидуальной и коллективной памяти:
«Подобно тому, как индивидуальное сознание обладает своими механизмами памяти, коллективное сознание, обнаруживая потребность фиксировать нечто общее для всего коллектива, создает механизмы коллективной памяти».
Высокий уровень этих бесписьменных культур общепризнан, что заставляет Лотмана поставить вопрос: «...является ли письменность первой и, что самое главное, единственно возможной формой коллективной памяти?» А ответ на этот вопрос, считает ученый, «следует искать, исходя из представления о том, что формы памяти производим от того, что считается подлежащим запоминанию, а это последнее зависит от структуры и ориентации данной цивилизации»25. Лотман Ю. М. Альтернативный вариант: Бесписьменная культура или культура до культуры?//Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М., 1996. С. 344-345.
Далее логика рассуждений Лотмана такова:
1. «Привычное нам отношение к памяти подразумевает, что запоминанию подлежат... исключительные события, т.е. события единичные...».
2. Нацеленность памяти на исключительные события в значительной степени определяет отбор информации для фиксации в письменных источниках: «Именно такие события попадают в хроники и летописи, становятся достоянием газет... Этому же закону подчиняется и художественная литература. Возникает частная переписка и мемориально-дневниковая литература, также фиксирующая "случаи" и "происшествия"».
3. Поскольку для письменной культуры «характерно внимание к причинно-следственным связям и результативности действий», это влечет за собой «обостренное внимание к времени», следствием чего
является «возникновение представления об истории».Лотман пишет: «Можно сказать, что история — один из побочных результатов возникновения письменности».
Иными словами, только письменная культура, обусловленная определенным механизмом памяти, имеет историю.
В отличие от письменной культуры, бесписьменная, по Лотману, обладает иным типом памяти, для которого характерно «стремление сохранить сведения о порядке, а не о его нарушениях, о законах, а не об эксцессах».
Культура с таким типом памяти «ориентированная не на умножение числа текстов, а на повторное вопроизведение текстов, раз навсегда данных». А это, в свою очередь, требует иного устройства коллективной памяти, средством фиксации для которой служат обычай и ритуал28.
Объясняя причины различий механизмов памяти в бесписьменной и письменной культурах, Лотман пишет: «Для того, чтобы письменность сделалась необходимой, требуются нестабильность исторических условий, динамизм и непредсказуемость обстоятельств и потребность в разнообразных семиотических переводах, возникающая при частных и длительных контактах с иноэтнической средой»29.
При этом он обращает внимание на географическую локализацию (сравните с Гегелем) бесписьменных (плоскогорья Перу, долины и междугорье Анд и узкая полоса перуанского побережья) и письменных (пространство между Балканами и Северной Африкой, Ближний и Средний Восток, побережье Черного и Средиземного морей) культур.
А теперь, для подтверждения гипотезы о возможности неисторического типа культур, используем построение Лотмана в качестве интерпретационной схемы и рассмотрим более близкую нам, хотя бы в географическом плане, проблемную ситуацию, связанную с характером русской крестьянской культуры. Попытаемся обосновать следующее утверждение: традиционная культура не имеет истории. Но прежде чем приступать к доказательству этой гипотезы, еще раз напомним, что предлагаемая здесь интерпретация — одна из возможных и ни в коей мере не претендует на окончательность решения проблемы.
Я вполне сознаю, что подобная констатация может произвести, на первый взгляд, шокирующее впечатление. Но, во-первых, мы можем, по-видимому, утверждать лишь модельную (т.е. аналитически вычлененную из взаимодействий с другими культурами) неисторичность традиционной культуры, а во-вторых, прийти к этому выводу меня заставило размышление над конкретной задачей. Занимаясь в течение многих лет разными аспектами российской истории XVIIIв., я, наконец, пришла к необходимости ее системного осмысления. И в эту целостную картину никак не помещалась история российского крестьянства. Причем по двум, казалось бы, разным причинам: во-первых, явно не хватает источников (хотя только в сравнении с другими сторонами исторического процесса) и, во-вторых, — более сложная проблема — не удается четко отделить крестьянство XVIIIв. от крестьянства века XVIIи XIXв.
Столкновение с этими в общем-то очевидными сложностями породило в моей голове неожиданное методологическое сомнение.
31 Не будем здесь обосновывать принадлежность русской крестьянской культуры к типу традиционных культур, а последуем пока за историографической традицией. И в дальнейшем изложении мы не будем строго разграничивать понятия «крестьянская культура», «народная культура» и «традиционная культура». Очевидно, что последнее из перечисленных понятий выступает как родовое по отношению к первым двум, а для исследуемой ситуации (российский ХУ1П в.) народная культура — это культура крестьянства.
Во-первых, необходимо поставить вопрос: крестьянская культура (и в более широком плане — традиционная культура)31 — это часть культуры соответствующей эпохи или вполне самостоятельная куль 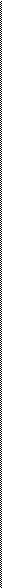 тура? Естественно, здесь речь не идет о каком-то «окончательном» ответе на вопрос о взаимоотношении разных культур, а лишь о поиске теоретической схемы, позволяющей разрешить описанную проблему. И в данном случае дело не в принципе «вчувствования» (А. Я. Гуревич) или «внеположенности» (М. М. Бахтин), а в том, в каком культурном контексте может быть рассмотрен отдельный «фрагмент» культуры.
тура? Естественно, здесь речь не идет о каком-то «окончательном» ответе на вопрос о взаимоотношении разных культур, а лишь о поиске теоретической схемы, позволяющей разрешить описанную проблему. И в данном случае дело не в принципе «вчувствования» (А. Я. Гуревич) или «внеположенности» (М. М. Бахтин), а в том, в каком культурном контексте может быть рассмотрен отдельный «фрагмент» культуры.
Выясним специфику источниковой базы изучения истории крестьянства, сосредоточив внимание лишь на нескольких ярких примерах, позволяющих выявить типологию исследовательских ситуаций:
1. Признанный специалист по истории европейского средневековья А. Я. Гуревич, исследуя «культуру безмолвствующего большинства», обращает внимание на такие источники, как «жития святых, «примеры», описания странствий души по загробному миру, проповеди, памятники вульгарного богословия, «покаянные книги» — пособия для исповедников, то есть жанры средневековой словесности, адресованные широкой массе населения».32
Гуревич и сам признает опосредованное отражение в этих источниках «культуры безмолвствующего большинства»: «Эти произведения, по большей части дидактического характера, служили в руках духовенства средством воздействия на религиозное и нравственное поведение паствы. Но для достижения своих целей сочинитель неизбежно должен был вступить в диалог с аудиторией...». «...и средневековые авторы не могли не испытать со стороны публики, на которую были ориентированы их произведения, определенного давления, — здесь создавалась своего рода "обратная связь"»34.
Но в любом случае, независимо от степени адекватности этой «обратной связи», исследователь опирается на источники, порожденные не «безмолвствующим большинством». Кстати, «безмолвствующее большинство» Гуревича — все же не безмолвствующее, а скорее «бесписьменное».
2. Одно из самых интересных исследований последнего времени по истории российского крестьянства — это исследование Е. Н. Швейковской о поморских крестьянах XVII в. Автор использует разные источники: писцовые книги, приходно-расходные книги Устюжской четверти, приходные и расходные книги всеуездных миров. Но основу исследования составили поземельные акты — купчие, меновые, закладные и др., оформлявшие сделки крестьян35. Таким образом, львиная доля источников этого исследования возникла отнюдь не в крестьянской среде: как правило, это материалы делопроизводства различных учреждений, а те актовые источники, которые фиксируют сделки между крестьянами, имеют смысл также только в контексте юридической практики, существующей в государственных рамках. Обратим также внимание на название книги Швейковской: «Государство и крестьяне...».
3. Специально «миру русской деревни» посвящено исследование М. М. Громыко, которая во введении к работе весьма патетически оспаривает утверждение о бедности источниковой базы по истории крестьянства: «сохранилось... множество описаний современников, подробнейших ответов на программы различных научных обществ, решений общинных сходок, прошений, писем и других документов, по которым можно очень подробно представить жизнь старой деревни»3*
В своей исследовательской увлеченности автор упорно не замечает главное, на мой взгляд, свойство значительной доли привлекаемых им источников — это материалы этнографических исследований. Шпенглер писал: «Средство для познания мертвых форм— математический закон. Средство для понимания живых форм — аналогия»37. Рискнем предложить аналогию: когда Миклухо-Маклай изучал папуасов, другие этнографы изучали теми же экспедиционными методами русский народ. Вполне очевидно, что при господстве позитивистских умонастроений народная (т.е. по сути крестьянская) культура рассматривалась как самостоятельный, отделенный от познающего объект исследования. Еще более рискованным сравнением будет аналогия между миссионерами где-нибудь в африканских джунглях и русскими народниками с их «хождениями в народ». Конечно, цели их были во многом различны (хотя, как посмотреть: и те и другие хотели обратить «паству» в свою культуру), но степень понимания другой культуры, в жизнь которой они пытались вмешаться, вполне сопоставима. Кстати, и само слово «хождение» не может не напомнить человеку, знакомому хоть сколько-нибудь с русской историей, путешествие тверского купца Афанасия Никитина «за три моря», в далекую-далекую Индию. Итак, выявленная нами типология исследовательских ситуаций при изучении так называемой «низовой», народной, крестьянской культуры с точки зрения письменнойисточниковой базы исследования выглядит следующим образом:
1) в средние века народная культура выступает как объект «духовного» воздействия со стороны «высокой» культуры;
2) в начале нового времени (российский XVII в.) крестьянство выступает как объект государственного интереса и как контрагент в рамках юридической культуры;
3) при переходе от нового времени к новейшему (XIX в.) народная культура становится объектом научного интереса.
Будем считать, что мы если не доказали, то в какой-то мере обосновали ответ на ранее поставленный вопрос: две культуры или две части одной культуры? Крестьянская культура — это иная культура. В чем же ее принципиальное отличие от культуры, которую часто называют «высокой», для российского ХУШ-Х1Х вв. — «дворянской», а мы попытаемся обосновать правомерность ее определения в более широких рамках как исторической?
Итак, поскольку традиционная культура постоянно ускользает при попытке рассмотреть ее в контексте культуры определенной исторической эпохи, попытаемся нащупать иной подход. И вновь обратимся к избранной нами интерпретационной схеме. Если традиционная культура — это культура бесписьменная, что обусловлено нацеленностью коллективной памяти на воспроизводство стереотипных структур, то это и означает, что такая культура не имеет истории.
А теперь вспомним, как называется статья Лотмана, давшая нам интерпретационную модель: «Альтернативный вариант: бесписьменная культура или культура до культуры?» Лотман доказывает, что существует самостоятельная, самоценная бесписьменная культура, которую нельзя рассматривать как «культуру до культуры», т.е. нельзя рассматривать как предшественницу «нашей» культуры, нельзя помещать в одно с ней историческое пространство.
И наконец, обратим внимание на то, что косвенные подтверждения своих наблюдений мы можем найти и у А. Я. Гуревича и Жака Ле Гоффа, хотя они исходят из не вписывающегося в наше построение убеждения в единстве культуры определенной эпохи. Хотя Гуревич считает средневековую культуру единой, он все же вынужден разделить ее на две культуры.
И хотя Гуревич исследует по преимуществу взаимоотношения между «устной» и «книжной» культурами, примечательно, что он взаимосвязанно рассматривает устную коммуникацию и трансляцию культуры. Но ведь трансляция может иметь разную направленность: от одной культуры к другой в коэкзистенциальном пространстве или от одного состояния культуры к другому в историческом пространстве.
Жак Ле Гофф обращает внимание на механизм воздействия средневековой нравоучительной литературы:
«...когда сто раз обнаруживаешь их [назидательные истории. — М.Р.] в разных местах, то становится ясной эта практика постоянного повторения [выделено мной. — М.Р.], которая переводит в интеллектуальную сферу и духовную жизнь стремление остановить время [выделено мной. — М.Р.], становится ясной сила инерции, как бы поглощавшая большую часть ментальной энергии средневековых людей»39.
Но все же, несмотря на теоретические построения, традиционная культура психологически воспринимается, с точки зрения европейского разума, как культура прошлого. Это легко объяснимо, если мы согласимся с определением европейской культуры как культуры по сути исторической и вспомним, что в течение длительного времени в ней преобладало (и отчасти продолжает удерживать свои позиции) понимание исторического процесса как стадиального и восприятие иных культур не как Других (в философском смысле), а как стоящих на более низких ступенях одной «исторической лестницы».
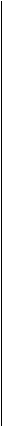 Но уже в XIX в. такое понимание было отчасти поколеблено. Не случайно в XIX в. развивается этнография как самостоятельная отрасль социального знания, противоположенная истории и отличающаяся от нее объектом исследования: история изучает «исторический» тип культуры, этнография — «традиционные» культуры, не имеющие истории.
Но уже в XIX в. такое понимание было отчасти поколеблено. Не случайно в XIX в. развивается этнография как самостоятельная отрасль социального знания, противоположенная истории и отличающаяся от нее объектом исследования: история изучает «исторический» тип культуры, этнография — «традиционные» культуры, не имеющие истории.
И именно Гегель сформулировал эту противоположенность, тем самым противопоставив свою концепцию стадиальным историческим теориям, рассматривавшим «традиционные» (бесписьменные) общества как раннюю ступень исторического развития любой социокультурной общности. И именно в этом - непреходящее значение исторической теории Гегеля, поскольку противостояние стадиальным теориям, продолжающим активно воздействовать на социально-политическую практику, сохраняет свою актуальность.
