Флобер, сервантес, дарвин
Никчемность того, что принято называть патри-
отизмом в испанском мышлении, ярче всего проявля-
ется в недостаточном внимании к действительно вели-
ким событиям нашей истории. Все силы уходят на
восхваление того, что совершенно бесплодно, чему
нельзя найти применения. Мы превозносим то, что
нам выгодно, забывая о том, что важно.
Нам определенно недостает книги, где было бы
детально доказано, что всякий роман заключает в себе,
словно тончайшую филигранную нить, «Дон Кихота»,
подобно тому как любая эпическая поэма несет в себе,
будто плод косточку, «Илиаду».
Флобер открыто заявляет: «Je retrouve,— говорит
он,—mes origines dans le livre que ie savais par coeur
avant de savoir lire, don Quichotte» *38 .
Мадам Бовари—Дон Кихот в юбке и минимум
трагедии в душе. Читательница романтических ро-
манов, представительница буржуазных идеалов, на-
саждавшихся-в Европе в течение полувека. Жалкие
* «Correspondance», 2, 16.
РАЗМЫШЛЕНИЯ-О «ДОН КИХОТЕ».
идеалы! Буржуазная демократия, позитивистский ро-
мантизм!
Флобер отдает себе полный отчет в том, что ро-
ман—жанр критической направленности и комичес-
кого нерва. «Je tourne beaucop a la critique,— писал он,
когда работал над «Мадам Бовари»,—le roman que je
ecris m'aiguise cette faculte, car c'est une oeuvre surtout de
critique ou plutot de anatomie» *39.
Ив другом месте: «Ah! се que manque a la societe
modern ce n'est pas un Christ, ni un Washington, ni im
Socrate, ni un Voltaire, c'est un Aristophane» **40.
Я думаю, что приступы реализма, которым был
подвержен Флобер, не вызывают сомнений. Более то-
го, точку зрения романиста следует считать свидетель-
ством исключительной важности.
Если современный роман в меньшей степени об-
наруживает комическую природу, то лишь потому, что
подвергаемые критике идеалы недостаточно отделены
от действительности, с которой идет борьба. Напряже-
ние крайне слабо: идеал низвергнут с очень небольшой
высоты. По этой причине можно предугадать, что
роман XIX века очень быстро станет неудобочита-
емым: он содержит наименьшее из возможного коли-
чества поэтического динамизма. Уже сейчас ясно: кни-
ги Доде или Мопассана не доставляют нам ныне того
наслаждения, как лет пятнадцать тому назад. И наобо-
рот, напряжение, которое несет в себе «Дон Кихот»,
обещает никогда не ослабнуть.
Реализм—идеал XIX века. «Факты, только фак-
ты!» —восклицает персонаж из «Тяжелых времен»
Диккенса/Как, а не почему, факт, а не идея, проповеду-
ет Огюст Конт41.
Мадам Бовари дышит с месье Омэ одним возду-
хом— атмосферой контизма. Работая над «Madame
Bovary», Флобер читал «Позитивную философию»:
«Est une ouvrage,—писал он,—profondement farce; il
faut seulement lire, pour s'en convaincre, Introduction qui
en est le resume; il у a, pour quequ'un qui voudrait faire
des charges au theatre dans le gout aristophanesque, sur les
theories sociales, des californies de rires» ***42.
* «Correspondance», 2, 370.
** Ibid., 2, 159.
*** Ibid., 2, 261.
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
Действительность столь сурова, что не выносит
идеала, даже когда идеализируют ее саму. А XIX век
не только возвел в героический ранг любое отрицание
героизма, поставив во главу угла идею позитивного,
но снова принудил героическое к позорной капитуля-
ции перед жестокой реальностью. Флобер обронил
как-то весьма характерную фразу: «On me croit epris du
reel, tandis que je l'execre; car c'est en hain du realisme que
j'ai entrepris ce roman» *43.
Те поколения, наши непосредственные предшест-
венники, заняли роковую позицию. Уже в «Дон Кихо-
те» стрелка поэтических весов склонилась в сторону
грусти, чтобы так и не выправиться до сих пор. Тот
век, наш отец, черпал извращенное наслаждение в пес-
симизме, он погрузился в него, он испил свою чашу до
дна, он потряс мир так, что рухнуло все хоть сколько-
нибудь возвышавшееся над общим уровнем. Из всего
XIX столетия до нас долетает словно один порыв
злобы.3а короткий срок естественные науки, основан-
ные на детерминизме, завоевали сферу биологии. Дар-
вин приходит к выводу, что ему удалось подчинить
живое—нашу последнюю надежду—физической не-
обходимости. Жизнь сводится только к материи, фи-
зиология—к механике44.
Организм, считавшийся независимым единством,
способным самостоятельно действовать, погружен от-
ныне в физическую среду, словно фигура, вытканная на
ковре. Уже не он движется, а среда в нем. Наши
действия не выходят за рамки реакций. Нет свободы,
оригинальности. Жить—значит приспосабливаться,
приспосабливаться—значит позволять материально-
му окружению проникать в нас, вытесняя из нас нac
самих. Приспособление—капитуляция и покорность.
Дарвин сметает героев с лица земли.
Пришла пора экспериментального романа («roman
experimental»). Золя учится поэзии не у Гомера или
Шекспира, а у Клода Бернара. Нам все время пытают-
ся говорить о человеке. Но поскольку теперь человек
не субъект своих поступков, он движим средой, в кото-
рой живет,—роман призван давать представление сре-
ды. Среда—единственный герой.
* «Correspondаnce», 3, 67—68. См.также, что он пишет о своем «Лек-
сиконе прошеных истин»: Gustavus Flaubertus, Bourgeoisophobus45.
ВОЛЯ К БАРОККО
Поговаривают, что нужно воспроизводить «обста-
новку». Искусство подчиняется полиции—правдопо-
добию. Но разве трагедия не имеет своего внутрен-
него, независимого правдоподобия? Разве нет эстети-
ческого vero46—прекрасного? Видимо, нет, ибо,
согласно позитивизму, прекрасное—только правдопо-
добное, а истинное—только физика. Роман стремится
к физиологии.
Однажды поздно ночью на Реге Lachaise47 Бувар
и Пекюше48 хоронят поэзию—во имя правдоподобия
и детерминизма.
ВОЛЯ К БАРОККО
Любопытный симптом из-
менения в идеях и чувствах, переживаемого европейс-
ким сознанием—мы говорим о том, что происходило
еще в довоенные годы,— новое направление наших
эстетических вкусов.
Нас больше не интересует роман, эта позиция дете-
рменизма1, позитивистский литературный жанр. Факт
бесспорный! Кто сомневается, пусть возьмет томик
Доде или Мопассана, и он изумится, как мало они его
трогают и как слабо звучат. С другой стороны, нас
давно не удивляет чувство неудовлетворенности, оста-
ющееся после чтения современных романов. Высочай-
шее мастерство и полное безлюдье. Все, что недвиж-
но,—присутствует, все, что в движении,—отсутствует
начисто.
Между тем книги Стендаля и Достоевского заво-
евывают все большее признание. В Германии зарожда-
ется культ Хеббеля. Каково же новое восприятие, на
которое указывает этот симптом?
Думаю, что изменение в литературных вкусах соот-
носится не только хронологически с возникшим в пла-
стических искусствах интересом к барокко. В прошлом
© Перевод Н. П. Снетковой, 1991 г.
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
веке пределом восхищения был Микеланджело; вос-
хищение словно бы задерживалось на меже, разделя-
ющей ухоженный парк и заросли дикой сельвы. Ба-
рокко внушало ужас; оно представлялось царством
беспорядка и дурного вкуса: Восхищение делало боль-
шой крюк и, ловко обогнув сельву, останавливалось по
другую ее сторону, там, где в царство искусства вместе
с Веласкесом, казалось, возвращалась естественность.
Не сомневаюсь, что стиль барокко был вычурным
и сложным. В нем отсутствуют прекрасные черты
предшествующей эпохи, те черты, которые возвели ее
в ранг эпохи классической. Не буду пытаться хоть на
мгновение возвратить в полком объеме права художе-
ственному периоду барокко. Не стану выяснять его
органическую структуру, как и многое другое, потому
что и вообще-то толком не известно, что он из себя
представляет.
Но, как бы то ни было, интерес к барокко растет
с каждым днем. Теперь Буркхардту не понадобилось
бы в «Cicerone»2 просить прощения у читателей за
свой занятия творениями семнадцатого века3. И хоть
нет у нас еще четкого анализа основ барокко, что-то
притягивает нас к барочному стилю, дает удовлетворе-
ние; то же самое испытываем мы по отношению к До-
стоевскому и Стендалю.
Достоевский, который пишет в эпоху, всецело на-
строенную на реализм, словно бы предлагает нам не
задерживаться на материале, которым он пользуется.
Если рассматривать каждую деталь романа в отдель-
ности, то она, возможно, покажется вполне реальной,
но эту ее реальность Достоевский отнюдь не подчерки-
вает. Напротив, мы видим, что в единстве романа
детали утрачивают реальность и автор лишь пользует-
ся ими как отправными точками для взрыва страстей.
Достоевскому важно создать в замкнутом романном
пространстве истинный динамизм, систему душераз-
дирающих страстей, бурный круговорот человеческих
душ. Прочитайте «Идиота». Там появляется некий мо-
лодой человек, приехавший из Швейцарии, где он с са-
мого детства жил в санатории. Приступ детского сла-
боумия начисто изгладил все из его памяти. В стериль-
ной атмосфере санатория некий милосердный врач
создал на основе нервной системы ребенка, словно на
ВОЛЯ К БАРОККО
проволочном каркасе, как раз такую духовность, кото-
рая необходима для постижения высокой нравствен-
ности. На самом же деле это чудесное дитя в образе
мужчины. Все это не слишком убедительно, но нужно
Достоевскому как отправная точка: с психологическим
правдоподобием покончено, и в свои права вступает
муза великого славянина. Месье Бурже прежде всего,
занялся бы подробнейшим описанием слабоумия. До-
стоевский совсем об этом не заботится, потому что все
это предметы внешнего мира, а для него важен ис-
ключительно мир поэтический, создаваемый им внут-
ри романа. Слабоумие ему нужно, чтобы среди людей
одного приблизительно круга могла разбушеваться
буря страстей. Все, что в его произведениях не есть
буря, попало туда только как предлог для бури. Как
если бы скорбный сокрытый дух сдернул покрывало
видимости и мы бы внезапно увидели жизнь состо-
ящей из отдельных составных частиц—вихрей и мол-
ний—или из ее изначальных течений, которые увлека-
ют человеческую личность на круги Дантова ада —
пьянства, скупости, излишеств, безволия, слабоумия,
сладострастия, извращений, страха.
Даже говорить дальше в таком духе означало бы
разрешить реальности слишком глубоко вторгнуться
в структуру маленьких поэтических миров. Скупость
и слабоумие—это движения, в конечном счете это
движения душ реальных, и можно было бы поверить,
что в замыслы Достоевского входило описание реаль-
ности душевных движений, как для других писате-
лей— описание их неподвижности. Вполне понятно,
что свои идеалы поэт должен облекать в реальные
образы, но стиль Достоевского характерен именно
тем, что не дает читателям долго созерцать материал,
которым он пользовался, и оставляет их наедине с чис-
тым динамизмом. Не слабоумие само по себе, а то, что
в нем есть от активного движения, составляет в «Иди-
оте» поэтическую объективность. Поэтому самым точ-
ным определением романа Достоевского был бы нари-
сованный в воздухе одним взмахом руки эллипс.
А разве не таковы некоторые картины Тинторетто?
А в особенности весь Эль Греко? Полотна отступи-
вшего от правил грека высятся перед нами как вер-
тикали скалистых берегов далеких стран. Нет другого
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
художника, который так затруднял бы проникновение
в свой внутренний мир. Недостает подъемного моста
и пологих склонов. Веласкес подкладывает нам свои
картины почти что под ноги, и мы, даже не задумав-
шись и ничего не ощутив, оказываемся внутри этих
полотен. Но суровый критянин бросает дротики пре-
зрения с высот своих скалистых берегов; он добился
того, что к его земле столетиями не причаливает ни
одно судно. Сегодня эта земля стала людным тор-
говым портом, и это, по моему мнению, тоже не
случайный симптом нового барочного восприятия.
Так вот: от романа Достоевского мы, даже не ощу-
тив этого, переносимся к картине Эль Греко. Здесь
материя тоже воспринимается лишь как предлог для
устремленного вперед движения. Каждая фигура—
пленница динамичного порыва; тело перекручено, оно
колеблется и дрожит, как тростник под штормовым
ветром—вендавалем4. Нет ни единой частицы в ор-
ганизме, которая не извивалась бы в конвульсиях.
Жестикулируют не только руки, все существо —
сплошной жест. У Веласкеса все персонажи неподвиж-
ны; если кто-нибудь и схвачен в момент, когда он
делает какой-то жест, то жест этот всегда скупой,
замороженный,—скорее, поза. Веласкес пишет мате-
рию и власть инерции. Отсюда бархат в его живопи-
си—подлинная бархатная материя и атлас—это ат-
лас и кожа—протоплазма. У Эль Греко все превраща-
ется в жест, в dynamis5.
Если мы охватим взглядом не одну фигуру, а це-
лую группу, то будем вовлечены в головокружитель-
ный водоворот. Картина у него—то ли стремительная
спираль, то ли эллипс, то ли буква «S». Искать прав-
доподобие у Эль Греко—вот когда поговорка более
чем уместна!—все равно что искать груш на яблоне.
Формы предметов всегда формы предметов неподвиж-
ных, а Эль Греко гонится только за движением. Зри-
тель, возможно, отвернется от картины, придя в дур-
ное расположение духа от запечатленного на полотне
perpetuum mobile, но он не станет добиваться, чтобы
живописца вышвырнули из пантеона. Эль Греко—по-
следователь Микеланджело, вершина динамичной жи-
вописи, которая, ужво всяком случае, не менее ценна,
чем живопись статичная. Его творения вселяли в лю-
ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ
дей ужас и тревогу, подобные тем, которые они выра-
жали, говоря о «terribilita»6 Буонаротти. Неистовый
напор насилия был обрушен Микеланджело на непо-
движные стены и мрамор. По утверждению Вазари, все
изваяния флорентийца обладали «un maravigloso gesto
di muoversi»7.
Круг нельзя сделать еще более круглым; именно
в этом суть того, что и сегодня и в ближайшем буду-
щем нас будет интересовать в барокко. Новое воспри-
ятие жаждет в искусстве и в жизни восхитительного
жеста, передающего движение.
ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ
Требовать от испанца, что-
бы, войдя в трамвай, он не окидывал взглядом знатока
всех едущих в нем женщин,—значит требовать невоз-
можного. Ведь это одна из самых характерных и глубо-
ко укоренившихся привычек нашего народа. Та настыр-
ность и почти осязаемость, с какими испанец смотрит на
женщину, представляются бестактными иностранцам
и некоторым моим соотечественникам. К числу послед-
них отношу себя и я, ибо у меня это вызывает неприятие.
И все же я считаю, что эта привычка—если оставить без
внимания настырность, дерзость и осязаемость взгля-
да—составляет одну из наиболее своеобразных, пре-
красных и благородных черт нашей нации. А отношение
к ней такое же, как и к другим проявлениям испанской
непосредственности, которые кажутся дикарскими из-за
смешения в них чистоты и скверны, целомудрия и похо-
ти. Но если их очистить, освободить изысканное от
непристойного, возвысить благородное начало, то они
могли бы составить весьма своеобразную систему пове-
дения, наподобие той, суть которой передается словами
gentleman или homme de bonne compagnie1.
Художникам, поэтам, людям света надо подверг-
нуть этот сырой материал многовековых привычек
© Перевод Г. Г. Орла, 1991 г.
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
реакции очищеция путем рефлексии. Это делал Вела-
скес, и можно не сомневаться, что восхищение пред-
ставителей других народов его творчеством в немалой
степени обусловлено тем, с какой любовью выписал он
телодвижения испанцев. Герман Коген говорил мне,
что каждый свой приезд в Париж он использует для
того, чтобы побывать в синагоге и полюбоваться же-
стами евреев—уроженцев Испании *.
Сейчас, однако, я не задаюсь целью раскрыть бла-
городный смысл, скрывающийся за взглядами, кото-
рыми испанец пожирает женщину. Это было интерес-
но, по крайней мере для «Наблюдателя», в течение
нескольких лет испытывавшего влияние Платона, от-
менного знатока науки видения. Но в данный момент
у меня другое намерение. Сегодня я сел в трамвай,
и поскольку ничто испанское мне не чуждо, то пустил
в ход вышеупомянутый взгляд знатока, постаравшись
освободить его от настырности, дерзости и осязаемо-
сти. И, к величайшему своему удивлению, я отметил,
что мне не понадобилось и трех секунд, чтобы эстети-
чески оценить и вынести твердое суждение о внеш-
ности восьми или девяти пассажирок. Эта очень краси-
ва, та—с некоторыми изъянами, вон та—просто без-
образна и т. д. В языке не хватает слов, чтобы
выразить все оттенки эстетического суждения, склады-
вающегося буквально в мгновение ока.
Поскольку путь предстоял долгий, а ни одна из
моих попутчиц не давала мне повода рассчитывать на
сентиментальное приключение, я погрузился в размы-
шления, предметом которых были мой собственный
взгляд и непроизвольность суждений.
«В чем же состоит,—спрашивал я себя,—этот пси-
хологический феномен, который можно было бы на-
звать вычислением женской красоты?» Я сейчас не
претендую на то, чтобы узнать, какой потаенный ме-
ханизм сознания определяет и регулирует этот акт
эстетической оценки. Я довольствуюсь лишь описани-
ем того, что мы отчетливо себе представляем, когда
осуществляем его.
Античная психология предполагает наличие у ин-
дивида априорного идеала красоты—в нашем случае
* Эту же мысль, облеченную в общую форму, можно найти в «Размыш-
лениях о «Дон Кихоте»2.
ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ
идеала женского лица, который он налагает на то
реальное лицо, на которое смотрит. Эстетическое суж-
дение тут состоит просто-напросто в восприятии со-
впадения или расхождения одного с другим. Эта те-
ория, происходящая из Платоновой метафизики, уко-
ренилась в эстетике, заражая ее своей изначальной
ошибочностью. Идеал как идея у Платона оказывается
единицей измерения, предсуществующей и трансцен-
дентной.
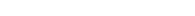 |
 |
Подобная теория представляет собой придуманное
построение, порожденное извечным стремлением эл-
линов к единому. Ведь бога Греции следовало бы ис-
кать не на Олимпе, этом подобии chateau3, где наслаж-
дается жизнью изысканное общество, а в идее «едино-
го». Единое—это единственное, что есть. Белые
предметы белы, а красивые женщины красивы не сами
по себе, не в силу своеобразия, а в силу большей или
меньшей причастности к единственной белизне и к еди-
нственной красивой женщине. Плотин, у которого этот
унитаризм доходит до крайности, нагромождает выра-
жения, говорящие нам о трагической устремленности
вещей к единому: Σπευδειυ όρεγεθαι πρόζ τό έν —(они)
спешат; стремятся, рвутся к единому. Их существова-
ние, заявляет ой, не более чем τόϊχυο τόύ έυόξ —
след единого4. Они испытывают почти что эротическое
стремление к единому. Наш Фрай Луис5, платонизиру-
ющий и плотинизирующий в своей мрачной келье,
находит более удачное выражение: единое—это «пред-
мет всепоглощающего вожделения вещей».
Но, повторю, все это—умственное построение.
Нет единого и всеобщего образца, которому уподоб-
лялись бы реальные вещи. Не стану же я, в самом деле,
накладывать на лица этих дам априорную схему женс-
кой красоты! Это было бы бестактно, а кроме того, не
соответствовало бы истине. Не зная, что представляет
собой совершенная женская красота, мужчина посто-
янно ищет ее с юных лет до глубокой старости. О, если
бы мы знали заранее, что она собою являет!
Так вот, если бы мы знали это заранее, то жизнь
утратила бы одну из лучших своих пружин и большую
долю своего драматизма. Каждая женщина, которую
мы видим впервые, пробуждает в нас возвышенную
надежду на то, что она и есть самая красивая. И так,
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕГ
в чередовании надежд и разочарований, приводящих
в трепет сердца, бежит наша жизнь по живописной
пересечённой местности. В разделе о соловье Бюффон
рассказывает об одной из этих птичек, дожившей до
четырнадцати лет благодаря тому, что ей никогда не
доводилось любить. «Очевидно,—добавляет он,—что
любовь сокращает дни нашей жизни, но правда и то,
что взамен она их наполняет».
Продолжим наш анализ. Поскольку я не имею
этого архетипа, единого образа женской красоты, то
у меня рождается предположение, которое возникало
уже у некоторых эстетиков, что, возможно, существует
некое множество различных типов физического совер-
шенства: совершенная брюнетка, идеальная блондин-
ка, простушка, мечтательница и т. д.
Сразу же заметим, что это предположение лишь
умножает связанные с данным вопросом сложности.
Во-первых, у меня нет ощущения, что я владею всем
набором подобных образцов, и я даже не подозреваю,
где и как я мог бы им обзавестись. Во-вторых, в рам-
ках каждого типа красоты я вижу возможность сущест-
вования неограниченного числа вариантов. Это зна-
чит, что количество идеальных типов пришлось бы
увеличить настолько, что они утратили бы свой видо-
вой характер. А если их, как и индивидуальных лиц,
будет бесчисленное множество, то сведется на нет сама
цель этой закономерности, состоящая, между прочим,
и в том, чтобы единое и общее сделать нормой и про-
тотипом для оценки единичного и многообразного.
Тем не менее нам хотелось бы кое-что подчеркнуть
в этой теории, дробящей единую модель на множество
типовых образцов. Что же вызвало такое дробление?
Это, несомненно, осознание того, что в действительности
при вычислении женской красоты мы руководствуемся не
единой схемой, налагая ее на конкретное лицо, лишенное
права голоса в эстетическом процессе. Напротив, руково-
дствуемся лицом, которое видим, и оно само, согласно
этой теории, выбирает такую из наших моделей, какая
должна быть к нему применена. Таким образом, индиви-
дуальность сотрудничает в выработке нашего суждения
о совершенстве, а не ведет себя совершенно пассивно,
Вот, по моему разумению, точная характеристика,
которая отражает действительную работу моего со-
ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ
знания, а не является гипотетическим построением.
В самом деле, глядя на конкретную женщину, я рас-
суждал бы совсем иначе, чем некий судья, поспеша-
ющий применить установленный кодекс, соответству-
ющий закон. Я закона не знаю; напротив, я ищу его во
встречающихся мне лицах. По лицу, которое я перед
собой вижу, я хочу узнать, что такое красота. Каждая
женская индивидуальность сулит мне совершенно но-
вую, еще незнакомую красоту; мои глаза ведут себя
подобно человеку, ожидающему открытия, внезапного
откровения.
Ход нашей мысли в момент, когда какую-то жен-
щину мы видим впервые, можно было бы точно оха-
рактеризовать при помощи довольно-таки фриволь-
ного галантного оборота: «Всякая женщина красива до
тех пор, пока не будет доказано обратное». Добавим
к этому; красива не предусмотренной нами красотой.
Воистину ожидания не всегда осуществляются.
Я припоминаю по этому поводу анекдот из жизни
журналистской братии Мадрида. Речь в нем идет об
одном театральном критике, умершем довольно давно,
который хвалу и хулу в своих писаниях увязывал с сооб-
ражениями финансового порядка. Однажды приехал
к нам на гастроли некий тенор, которому на следующий
день предстояло дебютировать в театре «Реаль»6. Наш
вечно нуждающийся критик поспешил к нему с визи-
том. Рассказал ему о своем многодетном семействе,
о скудных доходах, и сговорились они на тысяче песет.
Настал день дебюта, а критик условленной суммы не
получил. Начался спектакль—денег все не было; про-
шел первый акт, второй, последний, и, когда в редакции
критик принялся за статью, вознаграждение так и не
поступило. На следующее утро газета вышла с рецензи-
ей на оперу, в которой имя тенора упоминалось лишь
в последней строчке: «Да, мы чуть не забыли: вчера
дебютировал тенор X.; это многообещающий артист,
посмотрим, выполнит ли он то, что обещает».
Так вот, обещание красоты иногда не исполняется.
Мне, к примеру, достаточно было лишь мельком
взглянуть на вон ту даму на заднем сиденье трамвая,
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
чтобы признать ее некрасивой. Давайте разложим на
составные части этот акт неблагоприятного суждения.
Для этого нам нужно повторить его в замедленном
темпе, чтобы наша рефлексия могла проследить шаг за
шагом стихийную деятельность нашего сознания.
И вот что я замечаю: сначала взгляд охватывает
лицо в целом, в совокупности черт, и как бы обретает
некую общую установку; затем он выбирает одну из
черт—лоб, к примеру,—и скользит, по ней. Линия лба
плавно изгибается, и мне доставляет удовольствие на-
блюдать этот изгиб.
Мое настроение в этот момент можно довольно
точно описать фразой: «Это хорошо!» Но вот мой
взгляд упирается в нос, и я ощущаю некое затруднение,
колебание или помеху. Нечто подобное тому, что мы
испытываем на развилке двух дорог. Линия лба как
будто требует—не могу сказать почему—другого
продолжения, отличного от реального, которое ведет
мой взгляд за собой. Да, сомнений нет, я вижу две
линии: реальную и едва различимую, как бы призрач-
ную над действительной линией носа из плоти, честно
говоря несколько приплюснутого. И вот ввиду этой
двойственности мое сознание начинает испытывать
что-то вроде pietinement sur place7, колеблется, сомне-
вается и в нерешительности измеряет расстояние от
линии, которая должна была быть, до той, которая
есть на самом деле.
Мы, конечно, не будем сейчас проделывать шаг
за шагом то, от чего отказались при оценке лица
в целом. Нет ведь идеального носа, рта, идеальных
щек. Если подумать, то всякая некрасивая (не уро-
дливая*) черта лица может показаться нам красивой
в другом сочетании.
Дело в том, что мы, замечая изъяны, умеем их
исправлять. Мы проводим незримые, бесплотные ли-
нии, при помощи которых в одном месте что-то добав-
ляем, в другом—- убираем. Я говорю «бесплотные ли-
нии», и это не метафора. Наше сознание проводит их,
когда мы неотрывно смотрим туда, где никаких линий
не находим. Известно, что мы не можем безразлично
* Уродство—дефект биологический, а следовательно, предшествующий
плану эстетического суждения. Антонимом «уродливого» является не «краси-
вое», а «нормальное».
ЭСТЕТИКА В ТРАМВАЕ
смотреть на звезды на ночном небе: мы выделяем те
или иные из светящегося роя. А выделить их—значит
установить между ними какие-то связи; для этого мы
как бы соединяем их нитями звездной паутины. Свя-
занные ими светящиеся точки образуют некую бес-
телесную форму. Вот психологическая основа созвез-
дий: от века, когда ясная ночь зажигает огни в своем
синем мраке, язычник возводит взор горе и видит, что
Стрелец выпускает стрелу из лука, Кассиопея злится,
Дева ждет, а Орион прикрывается от Тельца своим
алмазным щитом.
Точно так же как группа светящихся точек образует
созвездие, реальное лицо, которое мы видим, создает
впечатление более или менее совпадающего с ним лица
идеального. В одном и том же движении нашего созна-
ния соединяются восприятие телесного бытия и смут-
ный образ идеала.
Итак, мы убедились в том, что образец не является
ни единым для всех, ни даже типовым. Каждое лицо,
словно в мистическом свечении, вызывает у нас пред-
ставление о своем собственном, единственном, исклю-
чительном идеале. Когда Рафаэль говорит, что он
пишет не то, что видит, a «una idea che mi vieni in
mente»8, не следует думать, что речь идет о Платоно-
вой идее, исключающей неистощимое многообразие
реального. Нет, каждая вещь рождается со своим,
только ей присущим идеалом. "
Таким образом, мы открываем перед эстетикой две-
ри ее темницы и приглашаем ее осмотреть все богатст-
ва мира.
«Laudata sii Diversita,
delle creature, sirena
del mondo»9.
Вот так я из этого ничем не примечательного трам-
вая, бегущего в Фуэнкарраль10, посылаю свое возраже-
ние в сад Академа.
Мною движет любовь, она заставляет меня гово-
рить... Это любовь к многообразию жизни, обеднению
которого способствовали порой лучшие умы. Ибо как
греки сделали из людей единичные души, а из красо-
ты— всеобщую норму или образец, так и Кант в свое
время сведет доброту, нравственное совершенство
к абстрактному видовому императиву.
6 Заказ № 1435 161
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
Нет и нет, долг не может быть единым и видовым.
У каждого из нас он свой—неотъемлемый и исключи-
тельный. Чтобы управлять моим поведением, Кант
предлагает мне критерий: всегда желать того, чего
любой другой может пожелать. Но это же выхолащи-
вает идеал, превращает его в юридический истукан
и в маску с ничейными чертами. Я могу желать в пол-
ной мере лишь того, чего мне лично хочется.
Рассмотренное нами вычисление женской красоты
служит ключом и для всех остальных сфер оценки. Что
приложимо к красоте, приложимо и к этике.
Мы уже видели, что всякое отдельно взятое лицо
являет собой одновременно и проект самого себя и его
более или менее полное осуществление. То же самое
и в сфере нравственности: каждый человек видится мне
как бы вписанным в свой собственный нравственный
силуэт, показывающий, каким должен бы быть харак-
тер этого человека в совершенстве. Иные своими по-
ступками всецело заполняют рамки своих возможно-.
стей, но, как правило, мы либо их не достигаем, либо
за них выходим. Как часто мы ловим себя на страст-
ном желании, чтобы наш ближний поступал так или
иначе, ибо с удивительной ясностью видим, что тем
самым он заполнил бы свой идеальный нравственный
силуэт!
Так давайте соизмерять каждого -с самим собой,
а то, что есть на самом деле, с тем, что могло бы быть.
«Стань самим собой»—вот справедливый импера-
тив... Обычно же с нами происходит то, что так чудес-
но и загадочно выразил Малларме, когда, делая вывод
относительно Гамлета, назвал его «сокрытым Госпо-
дом, не могущим стать собой»11.
Где угодно и в чем угодно будет нам полезна эта
идея, открывающая в самой действительности, во всем
непредвиденном, что она в себе таит, в ее способности
к беспредельному обновлению источник идеалов,
норм, образцов совершенства.
К литературной или художественной критике наша
теория применима самым непосредственным образом.
А анализ, направленный на формирование суждения
о женской красоте, применим к предмету чтения. Ког-
да мы читаем книгу, то ее «тело» как бы испытывает
постукивание молоточков нашей удовлетворенности
MUSICALIA
или неудовлетворенности. «Это хорошо,—говорим
мы,—так и должно быть». Или: «Это плохо, это ухо-
дит в сторону от совершенства». И автоматически мы
намечаем критическим пунктиром ту схему, на кото-
рую претендует произведение и которая либо прихо-
дится ему впору, либо оказывается слишком простор-
ной. Да, всякая книга—это сначала замысел, а потом
его воплощение, измеряемое тем же замыслом. Само
произведение раскрывает и нам свою норму и свои
огрехи. И было бы величайшей нелепостью делать
одного писателя мерилом другого.
А эта дама, сидящая передо мной...
— Куатро Каминос!12—выкрикивает кондуктор..
Этот крик всегда вызывал у меня тяжелое чувство, ибо
он—символ замешательства.
Однако приехали. За десять сантимов далеко не
уедешь.
MUSICALIA
I
Завсегдатаи концертных за-
лов по-прежнему неистово рукоплещут Мендельсону
и не перестают ошикивать Дебюсси. Новая музыка,
и прежде всего та, что является новой по самой
своей сути,—новая французская музыка остается не-
признанной.
Поистине ее величество публика всегда ненавидит
все новое просто потому, что оно новое. Это заставля-
ет нас вспомнить о том, про что обычно забывают
в наши дни: а именно, что все хоть сколько-нибудь
ценное на земле было создано горсткой избранных
вопреки ее величеству публике, в отчаянной борьбе
с тупой и злобной толпой. Не так уж не прав был
Ницше, измерявший достоинство человека тем, наско-
лько он способен быть одиноким, то есть той духовной
© Перевод В. В. Симонова, 1991 г.
6* 163
ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ
дистанцией, которая отделяет его от толпы. Полтора
века повсеместно курили фимиам народным массам,
и если мы сегодня возьмемся утверждать, что без
немногих избранных личностей мир закоснеет в непро-
ходимой глупости и пошлом эгоизме, то утверждение.
наше будет попахивать крамолой.
Сегодня ее величество публика освистывает Дебюс-
си так же, как вчера—Вагнера. Не случится ли с пер-
вым то, что случилось со вторым? Сорок лет спустя
публика все же отважилась аплодировать Вагнеру,
и этой зимой Королевский театр едва выдержал натиск
охваченного, вагнерианским пылом племени мелома-
нов. История повторяется. Лишь когда музыка Ваг-
нера утратила новизну, когда почти и следа не оста-
лось от весенней свежести ее юного и мощного обая-
ния, когда оперы композитора в руках ростовщика-
времени превратились в унылые иллюстрации из трак-
тата по геологии—скалы, гигантские хвощи и папо-
ротники, рептилии и белокурые дикари,—лишь тогда
толпа сочла уместным расчувствоваться. Неужели то
же случится с Дебюсси?
Возможно, что и нет. Если все новое непопулярно,
то есть явления, которые продолжают оставаться та-
ковыми, даже несмотря на весьма почтенный возраст.
Существует музыка, поэзия, живопись, научные идеи,
нравственные доктрины, обреченные на девственную
непознанность.
В определенном смысле можно говорить о целых
культурах, не снискавших популярности.
Если мы сравним азиатскую культуру с европейс- .
кой, то заметим, что в азиатской культуре нет, пожа-
луй, ни одного изначального мотива, который не был
бы доступен одновременно простолюдину и эрудиту.
Философия ученого индуса, по сути, ничем не отлича-
ется от философии неграмотного парии. Произведения
китайских художников в равной степени волнуют ман-
дарина и живущего подножным кормом бездомного
кули. Старания, которые азиаты издавна прилагают,
чтобы полярно противопоставить культуру простона-
родную и элитарную, лишь подтверждают в глазах
стороннего наблюдателя их исконное тождество. Ев-
ропейской же культуре никогда не было нужды наме-
ренно подчеркивать это различие, так как оно всегда
MUSICALIA
было самоочевидно. «Илиада»—творение, с которого
начала свой долгий путь западная литература,— было
написано на искусственном, условном языке, на кото-
ром никогда не говорил ни один народ, языке, сложив-
шемся в сравнительно узком кругу профессионалов
рапсодов, и многие века дивная эпическая поэма пе-
лась лишь на праздниках греческой знати. Греческая
наука—первообраз европейского научного знания—с
самого начала выдвинула такие парадоксы, что толпа
ipso facto1 отказалась вступить в ее таинственные чер-
тоги. Отсюда и укоренившаяся в простом народе по
отношению к творческому меньшинству ненависть,
враждебность, которая, как изжога, давала себя знать
на протяжении всей европейской истории и совершен-
но неизвестна великим цивилизациям Востока.
Но степень популярности творений меньшинства
внутри нашей культуры колеблется в зависимости от
эпохи. Так, сейчас мы переживаем момент, когда непо-
пулярность научного и художественного творчества
резко возросла. Да и как могут быть популярны со-
временная математика и физика? Идеи Эйнштейна,
к примеру, могут быть поняты (не говорю уж—оцене-
ны) едва ли несколькими десятками умов на всей на-
шей планете.
