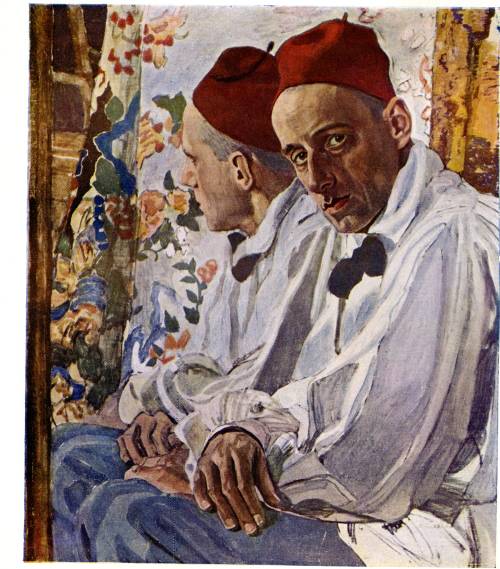Ix. после постановки «tpиctaha и изольды» (1910 г.)
1) Бенуа пишет[‡‡‡‡‡‡‡‡‡]: «XIII век, весь «исторический стиль» постановки не имеет в данном случае никаких оснований».
Представилась ли Бенуа одна из возможных для данного случая инсценировок:
Во-первых, инсценировка, где историзм является археологическим (так был поставлен «Юлий Цезарь» в Московском Художественном театре, по Готенроту); во-вторых, инсценировка вневременная и внепространственная («Смерть Тентажиля» в Театре-студии, с декорациями Сапунова и Судейкина, и «Вечная сказка» в театре В. Ф. Комиссаржевской, с декорациями и костюмами Денисова); и, в-третьих, инсценировка, где весь стиль постановки является как бы романтическим; таким становится стиль постановки в тех случаях, когда художник материалом для выявления стиля эпохи берет, например, миниатюры. Кн. Шервашидзе, монтировавший «Тристана и Изольду», взял именно этот третий род инсценировки. Как же можно назвать стиль, в каком выдержана постановка «Тристана и Изольды», «историческим»?
2) Бенуа предлагает перенести действие в область, лежащую вне определенного места и времени. А между тем пьеса-миф всегда бывает связана с более или менее определенным временем и местом (например, умирает Тристан на камнях Бретани, а не в каких-то камнях).
3) «Здесь не в покроях, не в архитектурных формах дело, а в символах. Самый корабль первого действия — символический корабль» (Бенуа).
Почему, раз в пьесе есть символы, непременно необходимо, чтобы покрой платьев был выдуман и чтобы корабль не был похож на корабль XIII века. Вещь не исключает символа; как раз наоборот: быт, углубляясь, сам себя уничтожает, как быт; иначе говоря: быт, становясь сверхнатуральным, становится символом. Самый натуральный корабль XIII века, если его вещественность довеществлена художником до той крайней натуральности, когда можно уж сказать: здесь подражание природе прошло путь вымысла (Сезанн), самый натуральный корабль XIII века становится более символическим, чем тот корабль, который станут представлять символическим, когда его облик совсем не связан с натурой.
4) «Надлежало,— по мнению Бенуа, — изобразить тайну девической замкнутости, род какой-то кельи, пряную душную атмосферу кипящей и не выяснившейся, преступной и всепоглощающей страсти».
Бенуа забыл возглас Изольды: «Здесь жду вассала я, Изольда». При всей нежности внешнего облика героини мифа, первое, что бросается в глаза в вагнеровском преломлении мифа, это — властность Изольды. Вовсе нет надобности заключать Изольду в келью, ибо она не из душной атмосферы палубных ковров рвется, она мечется потому, что борется за огненное утверждение страсти.
5) Бенуа, соглашаясь с кем-то, утверждающим, что декорация кн. Шервашидзе для второго действия «Тристана и Изольды» могла бы служить декорацией для «Макбета», пишет: «Скалы, корявые осенние деревья, голые камни налезающих на зрителя башен,— все это говорит только о беде». А разве не беда весь второй акт «Тристана»?
6) Осуждая обстановку второго действия, Бенуа пишет: «Ни минуты я не мог поверить, что люди, поющие на сцене слова наивысшего сладострастия, под аккомпанемент бешеного оркестра, чтобы эти люди творили соблазнительное беззаконие, предавались пьянящему греху и в озарении своей страсти, в восторге наслаждений прозревали свою последнюю правоту...»
Если сравнить «Тристана и Изольду» в обработке Жозефа Бедье или, например, драму Е. Hardt'a «Tantriss der Narr»[§§§§§§§§§] с вагнеровским текстом, видим, как пострадала у Вагнера драматическая архитектоника от того, что он намеренно в оси драмы сконцентрировал только то из мифа, что не мешало ему строить сложную философскую концепцию вокруг вопроса о Жизни и Смерти («...все значение и существование внешнего мира поставлено здесь в зависимость от внутренних, душевных движений».— Вагнер.) В центре музыкальной драмы, во втором акте, длинный дуэт Тристана и Изольды, весь построенный на отношении героев к Дню, как символу действительности, лежащей в мире позитивного, и Ночи, — как символу жизни иррациональной. Гениально построенная музыка погружает слушателя в тот мир грез, где немыслима никакая мозговая работа. «Was dort in keuscher Nacht dunkel verschlossen wacht', wass ohne Wiss' und Wahn ich dammernd dort empfah'n, ein Bild, das meine Augen zu schau'n sich nicht getrauten, — von des Tages Schein betroffen lag mir's da schimmernd of fen» (Wagner, «Tristan und Isolde», II Akt)[**********]. Первый переводчик вагнеровского текста «Тристана», кончив перевод этого длинного периода, спешит пояснить в выноске: «это значит: рассудок своим светом разогнал таинственный сумрак чувства; вместо того чтобы любить, Тристан стал рассуждать». Столь наивные комментарии — результат чрезмерной перегрузки рассудочного элемента в дуэте. Достаточно просмотреть все эти наивные примечания Вс. Чешихина к дуэту второго акта, чтобы убедиться, что содержание дуэта слишком сложно для музыкальной драмы, в которой слушатель, в конце концов, настолько всецело отдается миру музыки, что ему не до философии.
Неужели метафизический спор Тристана и Изольды, спрошу я Бенуа, о значении частицы «и», связующей их имена, и чрезмерное это — мне хочется сказать грубо —обмозговывание вопроса о Дне и Ночи, все это — «слова наивысшего сладострастия»?
7) Бенуа делает упрек в средневековом стилизме. В «Тристане» будто бы нет ничего от средневековья, ибо нет главной сути средневековья — христианства.
См. Лиштанберже[††††††††††]: «В первоначальном плане драмы Вагнер предполагал противопоставить Тристану, герою страсти, Парсифаля, героя отречения. Именно в третьем действии (в его первоначальном плане) в тот момент, когда Тристан у ног Изольды жаждет смерти и не может умереть, является в виде странника Парсифаль, пытающийся словами утешения успокоить скорбь Тристана, напрасно ищущего смысл жизни среди мук неутолимой страсти». Трагедия задумана именно в аспекте христианства, и Вагнер, опираясь в заданиях своих на элементы средневековья, не мог не вспомнить о герое, годном лишь для мистерии.
8) Бенуа спрашивает: «Что общего между Тристаном и XIII веком?» И далее прибавляет: «Готфрид лишь вновь обработал древнюю сагу». И далее: «Для Готфрида Тристан не казался героем современности, а был лицом мифическим, жившим в седой древности».
Остов «Тристана», каким он нужен был Вагнеру, счастливо нашел он именно в XIII веке в поэме Готфрида Страсбургского.
Для современного человека пределы зрительного воображения зависят от степени исторической образованности его.
Для человека XIII века пределы зрительного воображения определялись формами современного ему быта. И Готфрид не мог представлять себе Тристана иначе, как в образе рыцаря XIII века. (Вот почему кн. Шервашидзе и обратился к миниатюрам: миниатюры наилучше отразили взгляды современников.)
У Вагнера «нет ничего от средневековья, ибо нет главной сути средневековья — христианства» (Бенуа).
Быть может, Вагнер, углубившийся именно в Готфрида Страсбургского, вынужден был исключить Парсифаля. Бенуа не захотел взглянуть на Готфрида как на выход из средневековья. Второй этап этого выхода — роман Паоло и Франчески в Дамтовском «Аде». Не в XIII ли веке следует искать начало Ренессанса пластических искусств?
9) Музыкальный критик «Нового времени» М. Иванов в недоумении спрашивает: «Что мы знаем о судах XIII столетия?» Я бы посоветовал М. Иванову обратиться к следующим материалам: 1) Archeologie navale. Paris, Bertrand, 1839. 2) <Camille> Enlart. Manuel d'archeologie franchise, Paris, Picard et fils, 1904 (см. печати с изображением кораблей). 3) Боголюбов. «История корабля» (2 тома). 4) Манускрипты XIII века в С.-Петербургской Публичной библиотеке. 5) <Jean>, Le Sire de Joinville. Histoire de Saint-Louis, edit, de M. Nat<alis> de Wailly. 6) <Eugene Emmanuel> Viollet le Due. Dictionnaire raisonne du mobilier francais. Paris, Morel, 1874. 7) <Jules> Quicherat, Histoire du costume en France, Paris, Hachette, 1877[144].
X. О ПОСТАНОВКЕ «ЦЕЗАРЯ И КЛЕОПАТРЫ» НА СЦЕНЕ НОВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА[145] (Рецензия) (1910 г.)
Всякому современному Театру Драмы суждено теперь влачить жалкое существование во всех тех случаях, когда нет достаточно сил, чтобы в репертуаре опереться на классиков, а в исполнении суметь проявить хоть какой-нибудь канон. В такое время, право же, предпочтешь смотреть спектакли того театра, который откровенно отрясает от ног своих всякий модернизм; состарившийся театр, не выдающий себя за молодой. О таком театре знаешь — подгниет еще немножко и рухнет. Оттого и терпишь его, что он только доживает.
Когда же появляется такой театр, все существо которого столь же одряхлевшее, как существо любого из современных театров, и когда этот театр берет на себя задорный тон слыть за «новый» только потому, что он запасся целым мешком клише модернизма, — к такому театру нельзя относиться терпимо. Вульгаризованный модернизм служит той искусной заплатой, с помощью которой гнилой товар бесцеремонно продается публике за свежий.
Когда у режиссера нет специальных технических знаний, чтобы заставить все части целого на сцене загореться новым, еще невиданным светом, нет умения слить раздробленность творческих инициатив в единую гармонию, тогда (о, какой опасный найден путь!), чтобы выдать старое за новое, режиссер, не сумевший выковать совместно с актерами ни новой дикции, ни нового жеста, ни новых группировок, зовет модернистских художников и музыкантов и с помощью их костюмов, декораций и музыкальных иллюстраций старается прикрыть всю наготу нетронутой рутины. И вот театральный критик приветствует приемы стилизации, примененные умно и с большим вкусом. Как провинциал, перелистывающий страницы «Нивы», сдобренные стихами Блока и репродукциями картин Врубеля, думает, что он приобщается к модернизму, так «большая публика» вместе с театральным критиком аплодирует новому искусству.
Сцена декорирована подлинными художниками: Сапуновым, Судейкиным, Араповым. Но разве повлияло это обстоятельство на тон исполнения? Глубоко иронический тон Шоу принят режиссером за пародию на исторических лиц — не больше. Оттого пьеса трактована в тонах фарса (не гротеска: это было бы любапытно). Оттого выброшена сцена, когда Цезарь рисует на столе план пальцем, макая его в вино (фарсу не понадобился Цезарь в роли находчивого полководца). Оттого не понадобился режиссеру жрец, вызванный Клеопатрой для обряда заклинания. Оттого таким диссонансом прозвучала сцена, когда Теодот кричит об ужасе гибели александрийской библиотеки, Теодот, до того смешивший публику приемами самого дурного тона. Оттого режиссеру стало безразличным, что Клеопатра будто сбежала с малявинского холста[146], что Цезарь напоминает купца, Лейфертом[147] выряженного для клубных маскарадов.
Зачем понадобилось режиссеру ввести в пьесу целую юмористическую интермедию, когда пять актрис так смешно имитируют танцы Айседоры Дункан? Может быть, ни режиссер, ни доморощенные танцовщицы вовсе не намерены были высмеивать дунканизм, а всерьез перенеслись с этими танцами в представленную среду эпохи? Наивные, они (решили, что сам Шоу, расшивший по исторической канве целый узор современных мотивов, указал режиссеру уснастить пьесу всякими анахронизмами. Только понятая как фарс пьеса могла вместить в себе такую безвкусицу, как замена одной, по автору, арфистки пятью Айседорами Дункан.
В то время как Театры Балета и Оперы требуют от своих «ремесленников» непременного знания всех технических тонкостей ремесла, Театр Драмы свободно открывает свои двери всякому, кто в них постучится. Только при этом условии возможным стало появление режиссера без элементарных знаний режиссерской техники...
Лестница, взятая, между прочим, напрокат из сологубовской «Победы Смерти» (или «Вечной сказки» Пшибышевского?), продолжена в люк, открытый вдоль всей рампы; но люди, опускаясь в этот широкий провал, исчезают в нем с большими предосторожностями; доходя до люка, обязательно поворачиваются в профиль к зрителям; опустившись, стараются уйти куда-то в бок, а не прямо на публику, и кажется, все исчезают так, как будто лезут в какой-то погреб. А когда открывается занавес, и спиной к зрителю на дне люка расставлены статисты, готовящиеся подняться вверх по лестнице, кажется, будто по полу авансцены расставлены отрубленные головы. Группировка действующих лиц в этом акте так плохо отчеканена, и характеры костюмов двух встретившихся народностей так ие отличаются по колориту, что в глазах рябит от спутанной пестроты. В одной из картин у Шоу на сцене показано основание маяка, а сверху с подъемного крана на маяке свешивается большая цепь, с помощью которой поднимается наверх горючий материал для поддержания сигнального огня. Только потому, что режиссер не знал, как и когда надо пользоваться «падугами» (здесь падуга не была скрыта), — оказалось, будто цепь свешивается не с вершины маяка, а с неба. Полное незнание техники сцены режиссер обнаружил особенно в стремлении соединить в одном спектакле несоединимое. В спектакле «Цезарь и Клеопатра» представлена была мозаика из станиславщины, фуксовщины, мейерхольдовщины[148], евреиновщины... Мейниягенские крики толпы и за кулисами и на сцене (Станиславский), просцениум стиснут «условными» строенными порталами, не убирающимися в течение всего спектакля (Фукс), барельефный метод расположения фигур в первой картине (Мейерхольд), голые рабыни в туфельках на высоких каблуках и арфа из «Саломеи» (Евреинов)[149]. Мы присутствовали при зарождении нового типа режиссера — режиссера-компилятора. Но ведь и у компиляторов должно быть мастерство: шить так, чтобы скрыты были белые нитки. А тут все они налицо.
XI. ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
Анри-Луи Лекен пишет господину де ла Фертэ:
«Душа — вот первое актера, второе — интеллект, третье — искренность и теплота исполнения, четвертое — изысканный рисунок телесных движений».
«Voir son art en grand[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] — девиз актера», — еще прибавляет Лекен.
Анри-Луи Лекен — актер французской сцены второй половины XVIII века.
Гордон Крэг и Георг Фукс в начале XX века повторяют мечту Лекена об изысканном рисунке телесных движений на сцене.
Неужели двух веков не достаточно, чтобы считать созревшей истину о том, как важен рисунок, которому следует подчинять наше тело на сцене?
Театром утерян хор.
У древних греков героя окружала группа хора.
И у Шекспира герой в центре кольца второстепенных «характеров». Не совсем так, конечно, как у греков, а все-таки, быть может, в сонме второстепенных персонажей Театра Шекспира, окружавших первостепенного героя, еще чуть дрожал отзвук греческого хора.
В центре герой — и там, и тут.
Этот центр совсем исчезает у Чехова.
«Индивидуальности» у Чехова расплываются в группу лиц без центра. Исчез герой.
После Чехова Театр наш снова тоскует по герою. Героя попытался снова поставить на сцену Леонид Андреев, например. Но это так трудно в наши дни. Чтобы дать громче зазвучать героическому, в «Жизни Человека» надо было закрыть лица второстепенных персонажей масками. И когда закрыли, вдруг показалось, будто эта группа лиц с однородными масками дала отзвук утерянного хора. Неужели второстепенные персонажи «Жизни Человека» подобие греческого хора?! Конечно, нет, но здесь — симптом. Не знаю, скоро ли, но будет день, когда кто-то поможет нам вернуть утрату Театра: хор снова явится на сцену.
Страничка из «Жиль Блаза» Лесажа:
«Актриса Флоримонда сказала: «Кажется, у господина Педро де Мойа (автор пьесы) не очень-то довольный вид».
— Ах, мадам,— воскликнул Росимиро, — стоит ли об этом беспокоиться? Разве авторы заслуживают нашего внимания? Если быть с ними на дружеской ноге, — мне знакомы эти господа, — они сейчас же зазнаются. Будем и впредь обходиться с ними, как с рабами. Не будем бояться выводить их из терпения. Пусть в раздражении они иногда бегут от нас, не беда: — литературная горячка их снова гонит к нам. Они на седьмом небе уж от одного того, что мы соглашаемся играть их пьесы!»
Такой разговор мог бы быть подслушан и у современных актеров. И я не удивился бы, если бы нашел подобную страничку у М. Кузмина в его «Картонном домике»[150].
Вот часто говорят, что авторов в нынешних театрах игнорируют господа режиссеры.
Пусть не думает современный драматург, что, избавившись от режиссера, он не станет рабом актера.
Впрочем, урок истории не пройдет даром, если современный драматург, став лицом к лицу к актеру, последует примеру Еврипида.
Валерий Максим[§§§§§§§§§§] рассказывает, что раз на репетиции небольшому числу собравшихся слушателей и актерам не нравилась одна мысль,— все единогласно называли ее противною богам и требовали, чтобы она была выброшена. Это взбесило Еврипида и он, взбежавши на сцену, закричал: «Молчите, болваны, не вам судить о том, что будет приятно и что будет противно богам в моих стихах. Вы ровно ничего не понимаете; когда я даю вам разыгрывать мою трагедию, то не вы меня, а я вас должен учить!»
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ
БАЛАГАН (1912 г.)
I
«Мистерия в русском театре». Так Бенуа озаглавил одно из своих «Художественных писем»[***********]. Можно подумать, что в этом фельетоне[151] речь идет о постановке на русской сцене одной из пьес Алексея Ремизова, связанных с традициями средневековых зрелищ. Или, быть может, Скрябин уже осуществил одно из своих мечтаний, и Бенуа спешит оповестить публику о величайшем событии русской сцены, о появлении новой сценической формы, повторяющей мистериальные обряды древнегреческой культуры.
Мистерия осуществлена у нас, оказывается, не Алексеем Ремизовым и не Скрябиным, она осуществлена, по мнению Бенуа, на сцене Московского Художественного театра, в постановке «Братьев Карамазовых»[152].
Нет никакого сомнения в том, что не от nwnfjpiov[†††††††††††] производит Бенуа слово «мистерия». Кто же станет подозревать Бенуа в том, что он увидел в этом спектакле наследие чудесных элевзинских таинств[153]?
Может быть, мистерия Бенуа близка к ministerium[‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]? Но какие же черты мистерий средневековья лежат в спектакле «Братья Карамазовы»? Или, может быть, здесь очищение древнегреческой мистерии смешалось с чертами средневековой мистерии, с ее назидательностью и наглядной демонстрацией?
В романе Достоевского черты очищения и назидательности налицо, но они вложены в гениальное построение тезы и антитезы: бога и диавола. Зосима и «карамазовщина», символ божества и символ диавола, составляют две неразрывных основы романа.
На сцене центр тяжести в развитии интриги перенесен на Митю. При переделке романа в пьесу исчезла основная триада Достоевского: Зосима, Алеша и Иван в их взаимоотношении. В таком виде «Братья Карамазовы» являются просто-напросто инсценированной фабулой романа, вернее — некоторых глав романа. Такая переделка романа в пьесу кажется нам разве только кощунством и не только в отношении к Достоевскому, но, если из этого представления устроители хотели сделать мистерию, еще и в отношении к идее подлинной мистерии.
Уж если ждать мистерию в русском театре, так от кого же и ждать ее, как не от Алексея Ремизова или Скрябина?! Но вот вопрос: пришла ли пора? И вот другой вопрос: может ли Театр принять в свое лоно мистерию?
Скрябин в первой своей симфонии пропел гимн искусству как религии, в третьей симфонии раскрыл силу освобождающегося духа и самоутверждающейся личности, в «Поэме экстаза» — человека охватывает радость от сознания, что свободно пройден им тернистый путь и для него настает час творчества. В этих этапах Скрябиным добыт немалоценный материал, который готов быть использованным в грандиозном обряде, именуемом мистерией, где сольются в единую гармонию и музыка, и танец, и свет, и опьяняющий запах полевых цветов и трав. Если взглянуть, как чудовищно быстро совершил Скрябин путь от первой симфонии к «Прометею», можно с уверенностью сказать: Скрябин готов предстать перед публикой с мистерией. Но если «Прометей» не слил современных слушателей в единую общину, захочет ли Скрябин выступать пред ними с мистерией? Недаром автора «Прометея» тянет на берега Ганга. У него еще нет для мистерии зрительного зала, здесь он еще не собрал вокруг себя истинноверующих и посвященных.
Когда речь идет о мистериях, о возможности их создания у нас для широкой публики, мне всегда хочется указать на два явления из истории французского театра, которые могли бы быть поучительными для нас.
«Les Confreres de la Passion»[154], строго охранявшие заветы подлинной мистерии, должны были замкнуться в тесной общине св. Троицы, давая свои представления лишь для посвященных. Так создался Дом мистерий.
Базошокие клерки[155], опираясь на основы мимизма, ринулись на улицу. И тут только создался подлинный Театр, в этом тесном единении гистрионов с народом.
Строго разграничились две области публичных действ: мистериальная и театральная.
У нас упорно не хотят отъединить эти две столь противоположные области.
Ремизов несет свое «Бесовское действо» в театр, туда, где вчера еще публику волновал автор «Балаганчика», этот истинный маг театральности[156]. Пусть часть зрительного зала шикала Блоку